В конце июля в Петербурге подвели итоги архитектурного конкурса на концепцию административного корпуса вестибюля новой станции метро «Лиговский проспект — 2». Первое место заняла работа «Студии 17», второе — архитектурного бюро SLOI Architects, третье — «А.Лен». Многие петербуржцы на решение жюри отреагировали неоднозначно и требуют пересмотра результатов. Собака.ru собрала мнения экспертов о проектах участников.
В марте Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) объявил конкурс на разработку концепции административного корпуса вестибюля станции метро «Лиговский проспект — 2», которая станет частью узла Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Со станцией «Лиговский проспект — 1» ее свяжет подземный переход. Помимо в здании на Лиговском, 52К разместят музей метрополитена, административные помещения и клиентский центр.
Первый этап конкурса — квалификационный отбор по портфолио. Среди требований к участникам — высокая профессиональная репутация и не менее пяти лет опыта работы с историческими территориями центральных районов Петербурга.
Из 21 заявки отобрали 10 коллективов: SLOI Architects, «Евгений Герасимов и партнеры», «Архитектурная мастерская Б2», Intercolumnium, АБ «Хвоя», «Архитектурная мастерская М. Атаянца», «А.Лен», «Студия 17», «Студия 44» и «СУАР.Т-проект». Последние два вышли из конкурса по собственной инициативе. Работы восьми финалистов были представлены с 12 по 18 июля на выставке в Доме архитектора. Посмотреть концепции можно здесь.
В конце июля подвели итоги конкурса. В состав жюри вошли главный архитектор Петербурга Павел Соколов, председатель КГА Юлия Киселева, председатель КГИОП Алексей Михайлов, президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Владимир Григорьев, руководитель управления проектными работами АО «Метрострой Северной столицы» Станислав Голубев, архитектор Михаил Мамошин и другие. При этом в разговоре с Собака.ru Владимир Григорьев подчеркнул, что жюри выбрало победителя без его участия.
Первое место занял проект «Студии-17», второе — архитектурного бюро SLOI Architects, третье — «А.Лен». В разговоре с «Архи.ру» механизм принятия решения пояснил член Градостроительного совета при правительстве Петербурга, заслуженный архитектор России Владимир Линов: «Все участники конкурса нарушили какие-либо заданные ограничения. Особенно это относится к охранным ограничениям по высоте, проценту остекления, скатной крыше и так далее. Выбран победителем проект, в котором жюри усмотрело минимум нарушений и, главное, возможность при проектировании внести нужные поправки без изменения общей композиции».
Результаты вызвали большой резонанс среди профессионалов и общественности. В соцсетях пользователи реагировали скорее негативно: в телеграм-канале КГА под постом об итогах конкурса более 450 дизлайков. Архитектурный критик Мария Элькина написала обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой пересмотреть результаты архитектурного конкурса.
Собака.ru собрала мнения экспертов об итогах конкурса и работах участников:
Владимир Григорьев
Президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов:
«В голосовании за первое место я отказался участвовать. Кроме проекта архитектурной мастерской Максима Атаянца, ни одна из представленных работ не соответствует нормам Закона Санкт-Петербурга № 820-7 “О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия”. Считаю, что надо было предложить конкурсантам их доработать. Тотальное пренебрежение участниками законодательных норм — очень тревожный симптом. Очевидно, в массовом сознании сидит, что любое нарушение можно продавить административным ресурсом».
Владимир Фролов
Архитектурный критик, директор издательского дома «Балтикум»:
«Если считать, что архитектурный конкурс делается для того, чтобы определить лучший проект того или иного здания, то итоги состязания удачными не назовешь.
Во-первых, большинство участников не стремились к взаимодействию с архитектурной традицией Петербурга (либо делали это весьма условно), оставаясь в русле постмодернистских или метамодернистских трендов. Многие авторы выбрали жанр офисного здания в качестве основы для разработки по сути вокзального сооружения. Когда речь идет не о рядовом метро, а портале в транспортный хаб, такая трактовка темы не совсем понятна.
Во-вторых, первую премию дали предложению, которое выполнено в стилистике, характерной для 2000-х, возможно, первой половины 2010-х годов, а не для наших дней. Является ли подобное решение ответом на задачу создать “ворота в город”? Возможно, но в таком случае нужно понять, о каком городе идет речь. На мой взгляд, это ворота в Постленинград.
Хотя конкурс не дал результата, сопоставимого с лучшими решениями дореволюционной, да и советской эпохи, но ряд проектов заслуживает внимания. Неоклассическое решение Максима Атаянца, которое трактует тему входа в метро (и прохода на вокзал ВСМ) в духе римской триумфальной арки, вполне обосновано. Можно критиковать детали, некоторую суховатость характера, но то, что сам архитектурный тип выбран в соответствии с темой, сомневаться никак нельзя. Римская идея и сама по себе уместна в Петербурге (вспомним, что Александр Бенуа сравнивал столицу с римским гражданином), а тип торжественных городских ворот имеет и древний символический смысл, связанный с транзитом между мирами, подходящий в контексте разговора о подземном транспорте.
Работа бюро SLOI, получившая вторую премию, должна быть отмечена как удачная попытка создания метамодернистского ответа на поставленную задачу. Петербург выступает в роли окна не в старую, а в современную Западную Европу. Проект напоминает решения финских архитекторов последних лет, с их попыткой снабдить крепкое модернистское основание каким-то радикальным элементом, позволяющим резко выделиться из контекста. По-своему такой вариант отвечает идее “ворот” между пространствами. При этом тема арки тут как бы вывернута наизнанку — вместо двух опор фасад по Лиговскому проспекту получил одну “ножку”-пилон, трактованную в качестве абстрактной скульптуры.
Весьма радикальна работа АБ “Хвоя”. Авторы, вероятно, осознанно отстранились от контекста, создав сооружение холодное, “конторское”, но в своем роде очень цельное и внутренне логичное. Уверен, при этом, что если бы архитекторов попросили спроектировать собственно “контору”, ответ был бы иным.
Профессионально выступила и мастерская “Евгений Герасимов и партнеры”, предложив сразу два варианта решения. Один из них близок к победившему и опирается на прообраз Дома Мертенса на Невском проспекте зодчего Мариана Лялевича, однако отличается более актуальной суперэклектической стилистикой. Здесь архитекторы работают с темами индустриальности, что связывает образ сооружения с духом Лиговки, да и с транспортной ретроэстетикой. Наконец, предложение бюро Intercolumnium — вариация на мотив московского официального модернизма в случае доработки могла бы создать ритмически допустимую локальную доминанту на проспекте».
Мария Элькина
Архитектурный критик. Цитата по телеграм-каналу «Город, говори»:
«Если коротко и образно, то станция (проект «Студии 17». — Прим. Ред.) сделана в худших традициях конца 1990-х и начала 2000-х годов: карикатурное сочетание современных материалов и технологий с как бы классическими решениями, таким случайным и не очень корректным использованием элементов традиционной европейской архитектуры. Главный из них — арка почти во всю высоту здания. Это может сравниться только с самыми отвратительными и вопиющими образцами лужковской архитектуры, про которую, слава богу, в Москве забыли, как про страшный сон.
Если структурно, то плохо вот что:
- Сразу видно, уже на рендерах, очень плохое качество поверхностей: нелепые грубые навесные фасады с заклепками, неприличные для городского сооружения, тем более для станции метро. Примерно такого же уровня остекление.
- Жутковатое сочетание навесного фасада под гранит и стекла. Оно неаккуратное, плохо продуманное и в общем образе, и в стыках.
- Очень неудачная идея с аркой, она приляпана сюда не пойми зачем. Для красоты не скажешь, она не красивая. С учетом первых двух пунктов вообще катастрофа.
- Атриум на крыше по качеству исполнения стремится к ларьку и худшим петербургским атриумам начала тысячелетия.
- Я бы сказала, что хорошее решение с углублением на уровне первого этажа, перед входом образуется что-то вроде портика. Но все такое мрачное и неудобное, что работать как общественное пространство не будет.
Конечно, тут в первую очередь надо задаться вопросом о механизме принятия решений. Как так получается, что, когда почти во всех больших городах России и особенно в Москве уже давно как-то стремятся достичь по мировым меркам хорошего качества проектов, самый красивый на свете город Петербург остается глухой архитектурной провинцией?
Что нужно делать? Как и делали 15 лет назад в Москве — искать профессионалов, создавать институции или реформировать старые. Что можно сделать быстро? Заменить несколько ключевых фигур на независимых профессионалов. Сделать так, чтобы в жюри каждого конкурса большинство составляли независимые профессионалы из Петербурга, может быть, из смежных областей, и/или хорошие архитекторы из других городов, которым нет резона голосовать "заодно". Градостроительный совет нужно реформировать таким образом, чтобы у членов Союза архитекторов осталось минимум возможностей лоббировать свои решения. В идеале же нужно сделать его (совет) более малочисленным и достойным, то есть проследить за тем, чтобы там не было людей, у которых за плечами есть позорные проекты, зато были бы люди с хорошей профессиональной репутацией, на которую можно положиться и которую страшно потерять. В Москве в свое время так сделали, и это сразу стало менять облик столицы в лучшую сторону».
Даниил Веретенников
Архитектор, городской планировщик. Цитата по телеграм-каналу «Клизма романтизма»:
«То, как дружно все ополчились против этого безобидного в общем-то проекта [архитектурного бюро «Студия 17»], говорит о том, что мы просто давно не получали архитектурных новостей из Петербурга и успели внушить себе, что местная архитектура развивается по меньшей мере в ногу с московской.
Действительно, после СКА Арены и будущих (не сбудущихся) очередей Лахта Центра мало что прорывалось за пределы кружка интересующихся питерскими новостройками.
Вот мы и успели забыть о том, что вообще-то петербургские мэтры-капромантье не только продолжают проектировать, но и не видят причин переучиваться и искать для себя новые жанры. У меня плохие новости для тех, кто тешил себя надеждой, будто долгожданная смена поколений в петербургской архитектуре уже произошла.
Многие пишут, что это продолжение капрома. Выглядит похоже, но мне бы не хотелось с этим соглашаться. Капром девяностых — это лихая удаль, нигилистская усмешка, постмодернистский панковский драйв, остроумный эксперимент и деконструкция общественного вкуса. А в 2025-м от такой архитектуры отдает мертвячиной: такое чувство, что рука авторов еще по инерции рисует постмодернизм, но никто из них уже не помнит, для чего это делается и какие смыслы они сами когда-то в это вкладывали.
Проект обыкновенный. Он контекстуальный. По-стариковски умный. Неяркий соразмерно своей невысокой градостроительной значимости. Развивающий многолетние традиции и исполненный какой-то нездешней усталости от поисков нового языка, даже как будто расписавшийся в тщетности самих этих поисков.
Думаю, что резонанс вокруг этого конкурса пойдет петербургской архитектуре на пользу. Точнее — институтам принятия решений в ней».
Дмитрий Гусаров
Историк архитектуры:
«Учитывая, что облик Лиговского проспекта нецелен и разнохарактерен, этот участок испортить было сложно. Главным минусом всех конкурсных работ стало соседство с двухэтажным зданием. Если говорить об облике станции метро с музеем и вокзалом, то есть примеры на том же Лиговском проспекте — Московский вокзал, БКЗ, станция метро "Лиговский проспект — 1" и Крестовоздвиженская церковь. Все эти постройки вежливо отступают от проспекта, формируя перед зданием пространство. Новый терминал (во всех проектах) выходит на красную линию без площади. Очевидно же там соберутся толпы людей — будет неудобно.
К ошибкам в проектах участников следует отнести мотив арки — избитый и дискредитировавший себя сюжет. Если в облике Балтийского, Варшавского и Ладожского вокзалов он использован умело, то последующее его растиражирование в торговых объектах ставит закономерный вопрос: а так ли нужен этот портал в виде гипер-арки на Лиговке?
При этом высота здания правильная — вокзал здесь точно не должен быть низким. И главные символы новой постройки умело найдены в работе "Архитектурной мастерской Б2" — это часы, вынесенные в отдельный объем, и вагон метро в прозрачном объеме. Первый говорит о том, что это вокзал (!), а второй — о музее метро. Это добавило бы облику Лиговки свежую ноту — пока у нее есть лишь набор всех стилей, объемов, сюжетов и времен. Современной архитектуры ведь в Петербурге практически нет, в центре так вообще мало. А предложение "Архитектурной мастерской Б2" очень современно. Концепция "Студии-17" производит впечатление попытки сделать "под старину", но в гипертрофированных размерах. Этот стиль проходили в девяностые, и он пока критически не осмыслен. Но я допускаю мысль, что проект победителя с годами найдет признание в обществе».
Татьяна Осецкая
Сооснователь архитектурного бюро Osetskaya.Salov, соавтор проекта-победителя открытого Международного конкурса на разработку облика станции Московского метрополитена «Кленовый бульвар»:
«Архитектурный конкурс на проект административного корпуса вестибюля станции "Лиговский проспект — 2" — значимое событие не только с точки зрения инженерной необходимости, но и как жест, утверждающий возможность нового высказывания в историческом и тектонически напряженном городском контексте.
Пространство подземного города всегда несет в себе архетипическую нагрузку. Метро — не просто инфраструктура, а современная форма сакрального: здесь происходит погружение, перемещение, перерождение. В этом смысле архитектура вестибюля — порог, рубеж, точка трансформации между шумным городом и подземной тишиной. Именно потому к такому проекту нельзя подходить утилитарно — необходимо создавать пространственный образ-переводчик, работающий и с телесным, и с символическим уровнем восприятия.
Среди финалистов конкурса мы отметили SLOI Architects и АБ "Хвоя", которые стремились к формообразованию, не поддающемуся сиюминутной моде, — строгому, но выразительному, чуткому к масштабам города и человеку. Интересна концепция "А.Лен", где чувствуется работа с границей света и тьмы, с плотностью материала, с пластикой, выходящей за пределы сугубо функционального.
Что касается проекта-победителя, мы видим в нем добросовестную попытку соединить ясную организацию потока с узнаваемым силуэтом. Однако архитектурный язык решения представляется нам несколько избыточным и фрагментарным. Он уходит в сторону формального цитирования и теряет ту необходимую сдержанность, которую диктует город. Архитектура станции метро в Петербурге — всегда диалог с тенью классики, с отблеском гранита, с непрерывной вязью улиц. Здесь уместна не манифестация, а медленное звучание, как у мокрого асфальта или рельефа на гранитном памятнике.
Подлинно выдающейся стала бы концепция, способная не только обеспечить функциональность и техническую точность, но и оставить в памяти пассажира ощущение поэтической паузы, архитектурного вдоха — того, ради чего мы и продолжаем строить».
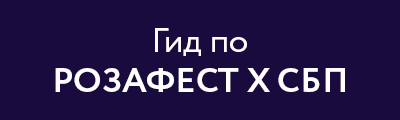






Комментарии (0)