Скульптор, член Градостроительного совета Петербурга и городского Художественного совета всю блокаду провел на Ленинградском фронте, дважды был в госпитале и встретил победу в Восточной Пруссии — подробности разузнал его ученик Ярослав Барков.
Григорий Данилович, вы предвидели начало войны?
В 1941 году я учился в десятом классе. К тому моменту все советские люди уже посмотрели фильм «Если завтра война» и другие подобные картины, в которых русские с легкостью побеждают любого врага. Смысл этих пропагандистских лент был в том, что если уж мы и будем воевать, то обязательно на чужой территории. 22 июня мы с мальчишками шли на футбол — на Зимнем стадионе наше «Динамо» должно было играть с тбилисским «Динамо». На углу улицы Бродского, нынешней Михайловской, и Невского под динамиком стояла толпа и слушала речь Молотова о начале войны. Нас немного взволновала эта новость, но предчувствия страшных событий не было. На стадионе мы обнаружили объявление, что матч откладывается на неопределенное время. 2 июля мы получили повестки явиться в военкомат на медкомиссию. В тот день призыва формировали отряд для школы политсостава в Ельню: должны были взять сто человек, а пришло сто двадцать парней. Поскольку моя фамилия в конце алфавитного списка, я в ту сотню не попал, в Смоленскую область меня не послали, и я остался на Ленинградском фронте на время всей блокады. А два моих товарища через две недели погибли в бою под Ельней. Меня отправили на артиллерийскую базу, выдали шерстяную буденовку с большой звездой времен Гражданской войны. Начались обстрелы Ленинграда. Я видел, как рушился дом на Суворовском проспекте, горел Гостиный двор, как из Эрмитажа эвакуировали живопись. Мы с сослуживцами постоянно ползали на крыши и сбрасывали немецкие «зажигалки», чтобы предотвратить пожары. Я спал в подворотне на досках и слушал, как разрывались снаряды где-то в центре города. С полудня до часу дня артобстрел прекращался, потому что немцы дисциплинированно обедали.
Как вы справлялись с голодом?
Мы жили вдесятером в комнате и по очереди ходили за едой, чтобы экономить силы. Настал мой черед — я забрал сухари, суп и сахар на всех, вернулся в казарму, а мои друзья сказали: «Сейчас мы посмотрим, честный ты или нет». И я понял, что если вдруг хоть одного кусочка сухаря мои товарищи недосчитаются, они меня действительно убьют. Такие озлобленные все были от голода. Позже я попал в учебный полк — мы мечтали вырваться из Ленинграда на поле боя, чтобы там раскопать картошки на старых огородах. Затем чувство голода атрофировалось — я помирал. Меня отвезли в госпиталь в Александро-Невской лавре со второй степенью дистрофии. За ночь там уходило из жизни по три-четыре человека. Трупы бросали в подвал, и оттуда периодически были слышны стоны — кого-то скинули раньше времени. Тощие санитары запихивали горы мертвых тел в грузовики. Но это зрелище уже не пугало — все чувства притупились. После госпиталя меня отправили в воздухоплавательный дивизион аэростатно-артиллерийского наблюдения — мы с высоты 800–1000 метров корректировали огонь советских батарей по немецким точкам. 14 января 1944 года началась операция по полному снятию блокады, и мы двинулись в сторону немцев. Под Нарвой меня ранило, я снова попал в госпиталь, после него в другую часть — роту связи.
Где была ваша семья на момент окончания войны?
С первых дней войны отец был врачом в госпитале в Ленинграде, мать там же работала библиотекарем. В 1945 году отец с группой фронтовых госпиталей дошел до Австрии, а я со своей ротой связи — до Восточной Пруссии — там я и узнал о победе. В школе я учил немецкий, поэтому в городе Мажейкяй мне пришлось объяснять двум немецким солдатам, как проехать в соседний город, — им нужно было сдать свой фургон артинструментальной разведки советским частям. Эти ребята были моими врагами, против которых я воевал долгих четыре года. Во мне должно было проснуться чувство ненависти, но они мне понравились — мы могли бы дружить, если б не война.
Что с вами происходило в мирное время?
Когда в Ленинград из эвакуации вернулась Академия художеств, я был зачислен на первый курс — перед войной я окончил художественную школу при Академии. Я учился в сложное время — все должны были проповедовать соцреализм. Например, темой дипломной работы я хотел взять геологов, а мне сказали делать дружбу народов. Когда я окончил институт, все ваяли памятники Ленину — тогда уже даже не спрашивали, над чем трудится скульптор.
Вашей основной темой в творчестве стала война.
Понимаете, в семнадцать лет все учатся танцевать, а я воевал. Так я и не умею плясать, и война осталась со мной по жизни. Я сделал больше пятидесяти памятников и основную их часть посвятил войне, а еще композиции, портреты и мемориальные доски — только рядом с домом висят подряд три доски моего авторства. Недавно китайцы для музея в Харбине забрали восемнадцать моих скульптур — мои ученики всю ночь их паковали. Я же уже двенадцать лет руковожу творческой мастерской Академии художеств: из двенадцати выпускников скульптурного факультета выбираю самых талантливых, и они по три года у меня стажируются.
Фото: Алексей Костромин
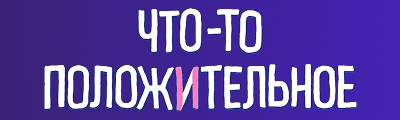

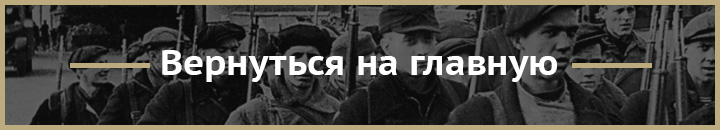
Комментарии (0)