В Петербурге открывается фестиваль «Дягилев P.S.», названный по имени знаменитого антрепренера. В честь его старта публикуем отрывок из биографии Сергея Павловича, вышедшей в ноябре в издательстве «Альпина нон-фикшн». В книге «Империя Дягилева» критик Руперт Кристиансен объясняет, как меценат перепридумал язык театра и объединил арт-деятелей от Нижинского, Стравинского и Бакста до Павловой, Рахманинова, Шаляпина и Пикассо.
Спойлер: фрагмент посвящен тому, как в 1906 году Дягилев дал первый (и значительный!) буст русскому искусству во Франции — в Парижской опере, на Осеннем салоне в Гран-Пале и первой премьере «Русских сезонов».
Здравый смысл подсказывал [Дягилеву], что, как это ни банально, более обеспеченное будущее для него заключается в приобщении Западной Европы к малоизвестной и недооцененной там русской национальной культуре. Париж был выбран местом запуска такого проекта не только потому, что этот город считался законодателем мод, но еще и потому, что Россия была в тесном дипломатическом сотрудничестве с Францией и Дягилев прекрасно владел французским языком, а это облегчало ведение переговоров.
Первым делом он занялся устройством новой масштабной выставки русского изобразительного искусства, приуроченной к ежегодному Осеннему салону в Гран-Пале, где демонстрировались произведения наиболее передовых мастеров. Здесь, как и в Таврическом дворце, ему вновь помогали друзья по кружку невских пиквикианцев (творческое содужество, основанного Александром Бенуа в 1887 году. — Прим.ред.): Бенуа отбирал экспонаты, составлял каталог и ворчал на Дягилева за его поведение, а Леон Бакст тем временем оформлял трельяжный сад со скульптурами и затягивал парчой стены для эффектного представления икон. В октябре 1906 года выставка, где было собрано около семисот пятидесяти экспонатов, открыла свои двери.
Париж любил все новое, и, хотя образ России был отчасти знаком французской публике — в том числе благодаря успешным переводам романов Льва Толстого и павильону России на Всемирной выставке 1900 года с представленной на ней помпезной моделью белокаменного кремля и ряженными в крестьян актерами в домотканых блузах и с окладистыми бородами, — традиции русского искусства, начиная с намоленных древних икон и заканчивая смелыми по колориту полотнами таких художников, как Михаил Ларионов и Николай Рерих, стали настоящим открытием для посетителей, которые наряду с этим постигали постимпрессионизм и фовизм. Все это возбудило любопытство в культурной элите города, и визитная карточка с именем Serge de Diaghileff удостоилась внимания первых лиц бомонда, среди которых были друзья Пруста, графиня Элизабет Греффюль и граф Робер де Монтескью — прототипы герцогини Германтской и барона де Шарлю в романе «В поисках утраченного времени». Общение с представителями высших слоев парижского общества могло привести к знакомству с теми, кто готов выписывать щедрые чеки.
Только вот для чего? В том, что касалось изобразительных искусств, Дягилев исчерпал свои возможности еще на Осеннем салоне: ничего существенного у него в запасе не осталось, а повторяться он не любил. Поэтому он переключился на русскую музыку. Поскольку в Париже о ней имели лишь самое поверхностное представление, в мае 1907 года Дягилев с помощью энергичного импресарио еврейского происхождения Габриэля Астрюка, безупречно одетого и богато осыпанного драгоценностями талантливого организатора, представил в Парижской опере пять симфонических концертов, познакомив городских ценителей музыки с такими композиторами, как Скрябин, Рахманинов, Глазунов и Римский-Корсаков, а заодно и с умопомрачительным басом Федора Шаляпина, чья могучая по притягательности аура и великолепный глубокий голос придавали особое звучание ариям из русских опер.
Хотя Дягилев потерял на этих концертах внушительное количество чужих денег, у него и в мыслях не было останавливаться. В 1908 году он сумел достать средства, чтобы пять раз дать в Парижской опере полную постановку «Бориса Годунова» Мусоргского с Шаляпиным в трагической роли царя. Правда, из-за чехарды с костюмами и декорациями Александра Бенуа и других художников, из-за отсутствия должного времени на репетиции и технические приготовления, из-за необходимости приглашать хор московского Большого театра все это, по словам того же Бенуа, «грозило катастрофой». Однако гений Дягилева состоял в том числе в его умении сохранять самообладание и выхватывать триумф у беды из пасти: титанические круглосуточные усилия и призывы не посрамить земли русской и верить в удачу привели к тому, что премьера «Бориса Годунова» за пределами России обернулась сенсацией, прославив на весь мир и саму оперу, и Шаляпина. После премьеры Дягилев с Шаляпиным, не в силах уснуть, гуляли по парижским бульварам в приподнятом настроении. В какой-то момент Шаляпин, по воспоминаниям Дягилева, воскликнул: «Сегодня мы сделали нечто невероятное! Не знаю, что именно, но мы действительно это сделали».
После спектаклей Дягилев вернулся в Петербург и принялся замышлять свой следующий набег на Париж. Новый сезон русской оперы с еще более обширной программой, гвоздем которой, разумеется, станет Шаляпин. Но эта затея, скорее всего, окажется разорительной. Так почему бы не добавить туда немного уже готовых постановок русского балета?
<...>
Такие сокровища, как Павлова, Карсавина и Нижинский, в главных партиях фокинских одноактных балетов, а вместе с ними и мощный бас Шаляпина станут для Дягилева драгоценной находкой, уникальным товаром, который он предложит Парижу. В воздухе витали некоторые намеки на предстоящие события. К тому времени небольшие труппы русских танцовщиков уже ездили на гастроли по городам Европы, но им, как правило, приходилось выступать в варьете, где они танцевали свои pas de deux в промежутке между дрессированными собачками и жонглерами. В 1908 году финский импресарио Эдвард Фацер организовал гастроли довольно большого коллектива в Берлине и Хельсинки. Однако Дягилев в своих честолюбивых замыслах пошел гораздо дальше: он хотел привезти европейской публике не просто звезд в костюмах, а всю театральную и музыкальную культуру России.
<...>
Как писал Чехов, русские питают слабость к бесконечным сомнениям и размышлениям, Дягилев же всегда действовал быстро. Ничего другого ему не оставалось: он затеял большую игру и пригласил поучаствовать в ней двести пятьдесят артистов оперы и балета и восемьдесят музыкантов оркестра из Императорских театров — контракты давали им полную свободу на время летних отпусков. Каждого из них нужно было оформить на работу, проинструктировать, а потом устроить для всех репетиции.
В мае 1909 года артисты на поезде прибыли в Париж. <...> Лишь немногие из них до этого выезжали за пределы России; их мучительно смущал собственный провинциализм, а la ville lumière не столько очаровывал, сколько пугал и ошеломлял их своею роскошью. «У меня было настолько преувеличенное представление о его непостижимом изяществе, что в глубине души я ждала увидеть похожие на бальные залы улицы, где ходят исключительно одни только прекрасные дамы и слышится шуршание их шелковых юбок, — вспоминала Тамара Карсавина . — Я боялась, что выгляжу провинциалкой» . Однако времени на то, чтобы разубедиться в этом, у нее не было. Астрюк организовал представления труппы в удачно расположенном, но довольно обветшалом театре «Шатле», известном прежде всего благодаря бессменному мюзиклу «Вокруг света за восемьдесят дней» и замысловатой машинерии для спецэффектов. Дягилев решил обновить фойе и зрительный зал и перестелить там полы, поэтому во время репетиций бедным артистам приходилось противостоять пыли и стуку молотков. «Рабочие сцены смотрели на нас как на ненормальных, — продолжает Карсавина . — Последние две недели перед представлениями прошли в суматохе, напряжении и истериках».
Поскольку средства расходовались в кредит, а кассовые сборы не могли покрыть всех издержек, антреприза, казалось, находится на волосок от полного провала. Помогал здоровый оптимистичный настрой — тот самый, который редко покидал артистов и не раз выручал их в трудные времена . В Париже была весна, и вслед за удачной генеральной репетицией устроили праздничный ужин, участники которого произносили речи и выражали надежду на успех . «Все пребывали в восторженном настроении. Никто не сомневался в предстоящем успехе, — пишет Петр Ливен . — Они ринулись в бой так, словно победа была предрешена».
<...>
Помимо банальной расклейки афиш и аппетитных подробностей для журналистов, импресарио Габриэль Астрюк составил список знаменитостей, высокопоставленных лиц, законодателей вкуса и видных особ, которых необходимо было пригласить на премьеру. «Я предложил самым красивым парижским актрисам занять места в первом ряду бельэтажа. Из пятидесяти двух приглашений было принято пятьдесят два Я внимательнейшим образом следил, чтобы блондинки чередовались с брюнетками», — кичился он своими заслугами. Мы никогда не узнаем, блеф это или правда — увы, у нас в распоряжении не так уж много содержательных рассказов о том вечере 19 мая 1909 года, — но сомневаться в выдающемся успехе этого события не приходится, к тому же обновленный зрительный зал и блистательная публика вызвали не меньший восторг, чем само представление.
Репертуар был внимательно составлен в соответствии с предпочтениями парижского зрителя. Программа первого вечера состояла из «Павильона Армиды» в постановке Фокина, второго акта оперы Бородина «Князь Игорь», который включает в себя балетный фрагмент с неистовыми половецкими плясками, и танцевальной сюиты «Пир», своеобразной подборки отдельных номеров, призванной поддразнить публику и показать ей, сколько еще богатств осталось в Петербурге.
<...>
Именно тогда родилась одна из легенд «Русского балета»: паря над сценой в сверхъестественном прыжке благодаря силе своих мускулистых ног и пружинистых пальцев, Вацлав Нижинский покорил парижскую публику, которая никогда раньше не видела, чтобы мужчина так чудесно танцевал. Он часто совершал эти прыжки из собственной прихоти и рассчитывал их траекторию таким образом, чтобы, достигнув апогея, скрыться из виду за кулисами, оставляя у зрителя ощущение продолжающегося полета. Критик Сирил Бомонт отмечал присущую Нижинскому «свободу полета», его абсолютную естественность при подъеме в воздух: «Никаких резких движений, никакой видимой подготовки, он прыгал ввысь или устремлялся вперед с непринужденной легкостью взмывающей в воздух птицы»
«Павильон Армиды» также представил Парижу очаровательную Тамару Карсавину — ослепительнокрасивую, удивительно чуткую к музыке и к своей роли. Нижинский был слишком погружен в себя, чтобы стать для нее по-настоящему отзывчивым партнером, но она понимала его ранимость и умело справлялась с этим. Они вместе возвращались на сцену в конце спектакля, чтобы оживить балетный дивертисмент «Пир» своим блестящим, виртуозным pas de deux, которое упрочило славу, уже завоеванную каждым из них в отдельности.
Еще одна, совершенно противоположная по духу «Павильону Армиды» сенсация вечера заставила цивилизованных европейцев направить свои восхищенные взгляды на зрелище, полное первобытных инстинктов: «Половецкие пляски», поставленные Фокиным на музыку из оперы Бородина «Князь Игорь». На смену благородному изяществу «Павильона Армиды» перед зрителем представал пьянящий образ совершенно дикой, первозданной Руси: вместо розовых пуантов и классического антуража на сцене появлялся бешеный вихрь варварской экзотики с его незамутненными красками, в сопровождении многоголосого хора с мрачными, зловещими басами; достигнув кульминации, этот круговорот перерастал в грохочущий убийственный пляс раззадоренных воинов под зажигательным предводительством Адольфа Больма, еще одного великого русского танцовщика. Больм, которому не свойственны были ни противоречивость, ни замкнутость Нижинского, умел, подобно Шаляпину, вселять в зрителей ужас и трепет: у него был настолько грозный вид, что казалось, он вот-вот перешагнет через рампу, спрыгнет со сцены в зрительный зал и начнет унижать дам и резать господ. Неудивительно, что «Половецкие пляски» имели мгновенный и продолжительный успех.
Такова была премьера «Русских сезонов». В целом она получила восторженные отзывы. Оркестр звучал необыкновенно бодро, артисты танцевали с непревзойденной живостью, декорации были исполнены в импрессионистической манере, далекой от старомодного педантичного реализма балетных постановок Парижской оперы, но при этом чувствовалось, что критики находятся под впечатлением и не знают толком, как все это воспринимать.
18+
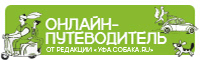








Комментарии (0)