В конце июля в Никола-Ленивце прошел 20-й фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние». На три дня ленд-парк под Калугой стал утопическим «Белым городом» с арт-объектами от бюро Megabudka, Archpoint, Citizenstudio и других. Специально для Собака.ru архитектурный критик и автор телеграм-канала «Город, говори» Мария Элькина побывала на «Архстоянии» и задумалась о том, почему лучшие российские архитекторы делают красивые инсталляции на природе, а не детские площадки в Московском районе Петербурга.
В 1989 году художник Николай Полисский приехал жить в тогда как будто богом забытую деревню Никола-Ленивец под Калугой. Он там рисовал, создавал арт-объекты с помощью местных жителей и однажды придумал, что нужно приглашать в свое место силы других архитекторов, чтобы они тоже делали для него инсталляции, тем самым превращая обычный деревенский русский пейзаж в совершенно уникальный.
Так в 2006 году появился фестиваль «Архстояние», а Никола-Ленивец постепенно стал самым большим парком искусств в России и в Европе. В 2009 году Александр Бродский, до сих пор самый известный за рубежом российский архитектор, построил в Никола-Ленивце свою знаменитую Ротонду — овальную избу с дверями по всему периметру. Она одновременно напоминает виллу Ротонда Андреа Палладио под Виченцей и сельский заброшенный дом из старых досок. Особенная красота заключается в отсутствии у Ротонды Бродского назначения, это архитектура в чистом виде. Не будучи чем-то конкретным, она стала «нашим всем». Ее вид на фоне поля и леса, вероятно, следует назвать самым важным каноническим образом современного российского здания, что бы об этом ни думали строители Москва-Сити.
Архитекторы привезли в Никола-Ленивец свои способности, а деревня в свою очередь стала для них территорией свободы, местом, где не нужно быть практичным и следовать за утилитарными требованиями девелоперов, чиновников и потребителей.
Каждый год для фестиваля «Архстояние» архитекторы делают инсталляции и дома, где можно остановиться на ночь. Приехав в Никола-Ленивец, вы можете переночевать в вилле ПО-2 Александра Бродского, «обелиске» петербургского бюро Katarsis или доме «Русское идеальное» главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Из всех арт-объектов в парке навсегда остается только небольшая часть.
Изначально предполагалось, что поездка в Никола-Ленивец, на фестиваль или просто так — в своем роде экспедиция, где вы соприкасаетесь с аутентичной культурой (а под это определение в равной степени подходят и деревенский уклад, и работы архитекторов), но вынуждены смириться с неудобствами жизни чуть вдали от городской цивилизации.
Ко второму юбилею фестиваль «Архстояние» превратился в модное событие, которое собирает тысячи посетителей. В одной локации и большая выставка в природных декорациях, и гламурное место для отдыха на природе, и рынок ремесленных товаров и сувениров наподобие тех, что вы во множестве обнаружите в Тайланде или в штате Гоа в Индии.
Среди авторов объектов для «Архстояния» сегодня есть почти все заметные российские архитекторы — от живущего в Берлине Сергея Чобана, спроектировавшего музей Сельского труда в соседней деревне Звизжи, до уже упомянутого Сергея Кузнецова и самых талантливых из моих ровесников.
В этом году самую удачную инсталляцию сделало бюро Citizenstudio совместно со Studio 911. «Паруса» представляют собой несколько помещений с полупрозрачными стенами, сходящихся к общей площадке. Тут хорош и силуэт, и очень практичная конструкция из дерева, обтянутого парусиной, и изящная, даже парадоксальная игра с общественными и приватными пространствами — в каждой «комнате» ощущаешь уединение и присутствие других людей одновременно.
«Музей» Наринэ Тютчевой по форме похож на античный храм, а деталями — на деревенскую архитектуру. Инсталляция изящно напоминает о частично сельской природе древнегреческой цивилизации, а заодно дает возможность всем желающим вспомнить детство и заняться выравниванием песка, но не детскими, а самыми что ни на есть взрослыми, большими деревянными граблями.
Флагманская работа фестиваля от бюро Megabudka «Площадь церемоний» выглядит скорее эффектной декорацией для фотографий в запрещенной социальной сети, но стоит ли ругать архитекторов за то, что они поддались главному соблазну своего времени — быть понятным и получить много снимков и лайков.
Так или иначе, «Архстояние» из великого эскапистского начинания стало одним из главных событий российского архитектурного и художественного мейнстрима. Мне, как, полагаю, и многим гостям Никола-Ленивца в этом году, хотелось бы поговорить о том, что инфраструктура площадки совершенно не приспособлена к такому количеству посетителей, но есть вещи и поважнее.
Всякий успех имеет свою цену и заставляет задаваться вопросом: «А что же дальше?». Что до первого, то есть цены, то она не кажется непомерной. Да, пожалуй, в этом году особенно заметно, что нет былой щепетильности в отборе участников, многое на фестивале кажется как будто бы случайным. Впрочем, одного стоящего сооружения достаточно для того, чтобы не придираться ко всем остальным.
Что действительно создает пищу для размышлений, так это сверхзадача русской архитектуры, которой удалось в той или иной степени вырваться из капкана изоляции. Проект запускался в период, который ощущался как постсоветский и был ответом на невозможность самореализации в «нормальных условиях». В СССР это было связано с тотальной монополией государства на архитектуру, в России 1990-х и 2000-х годов — с бюрократией, помноженной на плохой вкус и непросвещенность девелоперов и чиновников. Сегодня от всего этого остался след, но все же шансов делать что-то за пределами ограниченной территории свободы у архитекторов куда больше.
Очевидный путь, если посмотреть на ситуацию со стороны, виделся бы в том, чтобы условное «русское бедное» стало «русским социальным». И в Азии, и в Европе архитекторы, которым по любым причинам не симпатичен истеблишмент, выбирают работу с людьми и для людей, находят в этом миссию и отдушину. В Индонезии студия IBUKU делает фантастически изящные экологичные проекты вроде Зеленой Школы на острове Бали, финн Марко Касагранде организовал совместно с локальным сообществом в Тайване урбанистическую академию в старом руинированном здании Тайбэя.
Русских архитекторов путь социального подвижничества привлекает куда меньше, не сказать бы не привлекает совсем. Им нравится оставаться интеллектуальной элитой, делать «искусство ради искусства» или пытаться вписаться в существующие реалии, тем более что они, как ни крути, за 20 лет стали куда более благоприятными, во всяком случае в некоторых городах.
Тому есть две основные причины. Первая, простая, заключается в сильной забюрократизированности отрасли. Построить детскую площадку или городскую беседку в России почти так же сложно с точки зрения согласований, как полноценный жилой дом. Вы столкнетесь с системой тендеров, огромным количеством нормативов и требований, непониманием местных чиновников и так далее.
Другая причина историческая. Советский опыт во многом дискредитировал идею социального тем, что она навязывалась насильственно и не предполагала личного душевного порыва. Общество воспринималось как некое обобщенное «большинство», и автономия от него была необходимым условием творческого выживания.
Тут надо сказать, что устранение первой причины почти автоматически сведет вторую на нет. Я почему-то не сомневаюсь, что, если участие в разного рода социальных проектах станет простым, архитекторы забудут старые раны и дурную память поколений.
Мне вот совершенно непонятно, почему лучшие российские архитекторы делают инсталляции в деревне под Калугой, но не делаю общественные пространства, малые архитектурные формы и проекты реновации советского жилья в Петербурге.
Архитекторы хотят свободы, и нет ни одного стоящего объяснения, почему бы им ее не дать.
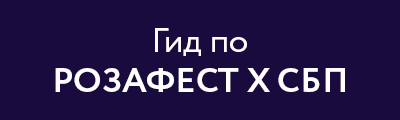







Комментарии (0)