А давайте действительно немного помедленнее, ну, чтобы попробовать эти слова на вкус (почти буквально), послушать их музыку; чтобы смотреть столько, сколько потребуется на безразмерную мистическую степь, в реальность которой верится с трудом, и то только благодаря верблюдам. Композитор лауреат нацпремии «Золотая маска» Ольга Шайдуллина рассказывает «НН.Собака.ru», почему сейчас и вообще стоит читать роман «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова.
Всего у книги было и в каком-то смысле продолжает быть, три названия. Первое – «Обруч» – литературная номенклатура в 1980-м не пропустила, усмотрев в нем намек на геополитическое противостояние сверхдержав (который в нем действительно есть). Нынешнее, «И дольше века длится день», было отвергнуто, потому что как-то сложно, и к тому же цитата из Пастернака. Какое-то время роман пожил, называясь «упрощенно» «Буранный полустанок». Айтматов рассказывал, что шел на эти уступки скрепя сердце, но главным для него было опубликовать книгу, не поставив «ее под удар фанатичной вульгаризированной критики» (хоть без купюр, конечно, и не обошлось).
Ольга Шайдуллина: «Эта книга сейчас звучит, как мне кажется, с новой силой. Темы, которые в ней затрагиваются, они сейчас каким-то пронзительным звоном проявляются на всех уровнях человеческого бытия и в нашей стране, и вообще в мире. Я вспомнила роман еще и из-за того, что сейчас идет дело моей подруги и соавтора Жени Беркович, которую вместе со Светланой Петрейчук судят за спектакль, девочки в СИЗО уже год. А что касается текста, то его стоит читать неспешно. Язык Айтматова настолько музыкален, что ты порой хочешь застрять, задержаться в его описаниях. Вот послушайте: «Смутная, текучая синева, захватывающая дух простора, возвышала мысли, вызывала желание долго жить и много думать... и среди этого белого великого безмолвия тоненькой ниточкой протянулась железная дорога, по которой как всегда шли-шли поезда». Да, я знаю это наизусть, это уже теперь со мной».
Айтматов рассказывал, что поэтическое видение мира и понимание прекрасного у него «от бабки». «Умная, чуткая, и мастерица, и сказительница» знала много преданий и песен. Писатель называл ее своим телевизором, – настоящего в аиле, отдаленном киргизском селении, где он рос, конечно, не было.
Ольга Шайдуллина: «Это текст, в котором ты просто плаваешь, в котором ты готов растворяться, тонуть. И даже, знаете, какое есть ощущение, будто бы ты что-то ешь, когда читаешь его описания – да, вот так организм откликается на них. Это чтение требует свободного времени у тебя и снаружи, в твоей внешней жизни, и внутри, чтобы ты мог расчистить пространство для того, чтобы роман и те темы, которые он охватывает, как-то в тебя уместились. Мне кажется, нам, живущим в мегаполисах, часто хочется, по крайней мере у меня последнее время есть желание, замедлиться, притормозить, остановиться, потому что иногда ты несешься и даже не успеваешь отследить, а куда ты, собственно, несешься. Айтматов с помощью своего языка как-то мистически способен воздействовать на человек. Когда ты погружаешься в его манеру писать, он тебя буквально уводит в какие-то иные пространства, в другое ощущение времени, бытия на Земле».
«Степь огромна, а человек невелик. Степь безучастна, ей все равно, худо ли, хорошо ли тебе, принимай ее такую, какая она есть, а человеку не все равно, что и как на свете, и терзается он, томится, кажется, что где-то в другом месте, среди других людей ему бы повезло, а тут он по ошибке судьбы… И оттого утрачивает он себя перед лицом великой неумолимой степи, разряжается духом, как тот аккумулятор с трехколесного мотоцикла Шаймердена. Хозяин все бережет его, сам не ездит и другим не дает. Вот и стоит машина без дела, а как надо – не заводится, иссякла заводная сила. Так и человек на сарозекских разъездах: не пристанет к делу, не укоренится в степи, не приживется – трудно устоять будет. Иные, глядя из вагонов мимоходом, за голову хватаются – господи, как тут люди могут жить?! Кругом только степь да верблюды! А вот так и живут, у кого на сколько терпения хватает. Три года, от силы четыре продержится – и делу тамам [тамам – конец.]: рассчитывается и уезжает куда подальше…» Чингиз Айтматов, «И дольше века длится день».
Ольга Шайдуллина: «Когда ты попадаешь впервые в степь, она отнимает у тебя все то, что глазу привычно сопоставлять и соизмерять, нет никаких визуальных зацепок, ориентиров. Я помню, когда мы ставили спектакль в Хакасии – а там бесконечные степи с большими барханами, – и вот ты стоишь, и не веришь в то, что видишь. Ощущение, будто смотришь на фотообои. Но это не оглушение, наоборот, позволение распространиться на какую-то совершенно неприличных размеров территорию, взглядом, своим существом, в ощущениях. И это, конечно, у Айтматова все есть, все отражено, степь – важный для романа образ».
В 2017 году в Музее истории ГУЛАГа по роману Айтматова поставили кукольную мистерию «И дольше века длится день». В спектакле задействованы музейные экспонаты – вещи, которые нашли в экспедициях по местам расположения бывших лагерей. Мистерию играют четыре актера и девять кукол. Ольга Шайдуллина – один из режиссеров спектакля и автор музыки, звучащей в нем.
Ольга Шайдуллина: «Книга во мне в первую очередь проросла именно этим спектаклем, который получил «Золотую маску», с которым мы объездили полстраны, мы и в Нижнем его играли несколько раз. Понятно, что спектакль – это не роман, там нет и половины того, что есть у Айтматова. Мы взяли конкретную историю Абуталипа Куттыбаева и его семьи, которая лежит в основе повествования. Это история попытки прожить счастливую жизнь в невыносимых условиях. Многие, конечно, помнят роман по легенде о манкурте*, она о том, насколько важна память, рефлексия этой памяти, насколько важна передача памяти от старшего поколения младшему, проживание и внимание к тому, что было».
* Есть предположение, что слово «манкурт» является неологизмом Айтматова, в романе употребляется в значении раба, лишенного памяти человека, полностью преданного хозяину; в общеупотребительном смысле – человек, забывший свое прошлое, который отказался от обычаев, традиций, ценностей, утратил нравственные ориентиры.
Текст: Владимир Трепитов
Фото: архив героя

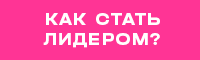


Комментарии (0)