Художник новой городской волны стабильно барражирует от масляной живописи к меланхоличному монохрому, выставляясь и в родном Нижнем, и на мировых площадках – от нью-йоркской NADA до сеульской KIAF (и не забудьте про Дубай, Гонконг и Тайвань!). Вместе с Максимом Труловым изучаем его метаморфозы (внешние – от скинни к оверсайзу и внутренние – от хтони к надежде), а еще говорим о моде, деконструкции реальности и роли кофе в современном искусстве.
Мода – это во многом про изменение внешности, поэтому первый вопрос: почему длинные волосы?
У меня сразу так сложилось. В школе они были не настолько длинные – учителя запрещали, и родители этому противились, а вот уже в институте я их отрастил. Я делал попытки постричься, но в таком виде мне было некомфортно. Недавно покрасил их в белый цвет – просто хотел их максимально высветлить. Было время, когда ходил розовый.
А где ты рос?
В Седьмом микрорайоне Сормова.
Наверное, были столкновения с окружающей действительностью?
Конечно, постоянно! Но, мне кажется, в Сормове для этого не обязательно даже быть с длинными волосами. Как в поговорке: «…и до столба можно».
Многие художники работают над своим имиджем, ищут какую-то фирменную деталь, по которой их можно узнать. Волосы – это часть твоего бренда?
Сейчас, в данном моменте – да. Но если вдруг стрельнет их остричь, я приму свое желание.
Твоя студия на Рождественской находится в помещении, где когда-то был клуб «Соль» – андеграундный, достаточно закрытый от посторонних. Ты стал частью того комьюнити?
Нет, не стал. Я был тогда совсем мелкий, лет восемнадцати, и мы там бывали с другом Иваном Серым. Про «Соль» узнал в «Буфете», мне сказали, что обязательно надо туда сходить. Я застал те тусовки – и это был, конечно, ад! Не скажу, что та атмосфера была мне очень приятна.
А где ты чувствовал себя своим?
В кофейнях. На тот момент это был Traveler's, одна из первых в Нижнем спешелти кофеен. Любовь к кофе соединила многих нижегородских художников – появились первые совместные выставки, образовалась свое комьюнити.
Странный прецедент – обычно творческие люди объединяются вокруг других напитков…
Потому что был такой человек – Василий Рогозин, который интересовался граффити. Он был намного старше всех нас и стал юристом нижегородских художников, нашей объединяющей точкой: познакомил со взрослыми институциями и площадками города, помог сделать выставки Subway в Арсенале, Crosspoint в Выставочном центре, с которых и начался подъем нижегородского уличного искусства. Василий как раз работал в этой кофейной сети – поэтому все так и сложилось.
Ты начинал как граффитчик, а у них в нулевые была своя униформа – бэги джинсы, просторные майки. Ты тоже так выглядел?
Возможно, бэги носили те, кто слушал рэп, – граффити вообще из хип-хоп-культуры. А я пытался показать, что уличная волна – это не обязательно рэп. Я слушал тяжелый рок, и у меня были джинсы скинни.
Кстати, тоже не очень типично, скорее напоминает образы Эди Слимана для Dior или Saint Laurent – худые мальчики с длинными волосами в узеньких пиджачках и джинсах.
Я понимаю, о чем ты говоришь, но я не стремился ему подражать – просто так совпало.
Ну а сейчас у тебя, как у большинства художников, черный оверсайз…
Да, это база, в которой мне комфортно. Скинни уже надоели, а оверсайз идеально вписался в мой образ жизни. Еще на мое отношение к одежде повлияла поездка в Корею. Наша галерея Lazy Mike снимала нам дом в Инчхоне под резиденцию, и я в ней жил полтора месяца. Корейская мода меня поразила – там, конечно, шарят в трендах! И этот визуал мне понравился – не просто оверсайз, а ультраширокие штаны. Или японская «рабочая» эстетика – очень модные робы.
Многие японские модные марки копируют одежду американских рабочих, но шьют ее из жутко дорогих тканей.
Вот в этом японская и корейская эстетика максимально взрывает мозг: они взяли западную культуру, но настолько ее переварили, что это уже не похоже на Запад, а стало их особенной самобытностью.
Мои впечатления о Корее: молодежь с ног до головы в черном, а самые модные – пенсионеры, которые буквально надели все лучшее сразу.
В Сеуле эта уличная культура не так открыта, как в Токио, там максимально не принято выделяться, поэтому в метро все едут одинаковые. Модных персонажей можно увидеть на отдельных мероприятиях, например в районе Hongdae.
Кстати, у тебя в работах тоже много заимствований из западной культуры, в первую очередь массовой, но ты ее переосмысливаешь в достаточно мрачной манере. Откуда это?
Возможно, из-за того, что я вырос на западных мультфильмах – Metro-Goldwyn-Mayer, Disney. Этот визуальный код в голове остался, но я смотрю на него через нашу родную хтонь.
Высокая мода зачастую поступает так же: берет известные и понятные всем вещи из массовой культуры и переделывает на свой манер, как, например, делал Дэмна Гвасалия в Balenciaga. Выходит, ты занимаешься тем же?
Искусство иногда можно сравнить с расслоением, деконструкцией: образы, которые привычно работали в повседневности, художники реконструируют, чтобы передать через них другие смыслы. И мода, и искусство по сути занимаются переработкой смыслов: разобрать на коллаж, а потом собрать по-новому.
Это то, о чем писал Жак Деррида. Ты интересовался французской философией?
Да: коллаж, монтаж, сборка – это же все оттуда. И Чак Паланик писал об этом.
Ты искал философскую базу своего творчества?
Обычно рисуется так, как рисуется, а уже потом начинается самоанализ: а почему именно так? И понимаешь, откуда все это ко мне пришло. Но многие считают, что не стоит связывать произведение и его автора – это две разные части одного целого.
А это уже пошел Ролан Барт, который писал про «смерть автора»: произведение творит само себя и живет по своим внутренним законам. Вместо автора у него – скриптор.
Я тут немного не согласен: свои работы я чувствую, как историю, которую рассказываю сам. Возможно, художник и есть тот дескриптор, который расскажет о произведениях, а может, они интереснее и без него. У меня есть работа – свеча с надписью «Hope», и некоторые мне писали: «Не слишком ли много надежды в наше темное время?» А я им отвечал: «Так сожгите ее!» Каждый может сделать с этим произведением что угодно: кто-то будет его хранить как арт-объект, а кто-то использовать утилитарно. Думаю, всегда надо оставлять пространство для интерпретации.
У тебя в студии на черной стене написано белым: «Повешенный душит веревку». Интерпретируй ее, пожалуйста.
Это слова поэта Пауля Целана, вернее, одна из интерпретаций его немецкого текста. Для меня это про созависимость: часто мы находимся в отношениях, которые считаем нормальными, а на самом деле вредим друг другу. Я помню эту фразу в другом переводе: «В отражении твоих глаз ты для меня и виселица, и висельник, и веревка». Ты для меня и наказание, и спасение, это как причинить добро – когда душат своей заботой. У меня сейчас достаточно тяжелый период, поэтому захотелось вылить свое состояние.
Но ведь всегда есть возможность написать что-то новое!
Хорошо, что ты так мыслишь! Я тоже надеюсь, что рано или поздно эту надпись замажу, потому что и-за этой черной стены помещение стало в два раза меньше. И она, конечно, максимально на меня давит. Но это надо просто пережить.
Когда наступит момент перекрасить стену?
Я это почувствую.
Фэшн-съемка стала для Максима Трулова кроличьей норой в мир, придуманный им самим: с черно-белыми мультами и кислотными обертками азиатского джанкфуда – обратная сторона потребительского рая. А точка бифуркации реального и выдуманного миров находится в заброшенном доме.
Текст: Сергей Костенко
Арт-директор, макияж и волосы: Юлия Анисимова
Фото: Диана Филатова
Ретушь: Юлия Волынова
Дизайнер: Игорь Андреев
Стиль: Анастасия Копейкина
Одежда: свитер и сумка VEREJA, ботинки ZARA; брюки, обожженные рубашка и майка созданы стилистом специально для съемки

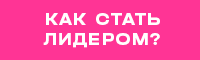









Комментарии (0)