Меценат и основатель междисциплинарной культурной институции «МИРА» Дмитрий Разумов собирал, собирал свою частную коллекцию искусства, пока зимой 2018 года не познакомился с художником и куратором Андреем Бартеневым. Так они и стали искать на арт-рынке все самое неординарное и эксцентричное, не обращая внимания на имена первого ряда, иногда буквально переоткрывая забытых художников. Когда к команде присоединилась хранитель и сокуратор Виктория Ушакова, стало понятно, что дело принимает институциональный оборот: сегодня коллекция «МИРА» — это более 40 000 единиц хранения, гигантский архив книжного и журнального печатного авангарда 1910–1930-х годов, больше двадцати тысяч журналов и примерно десять тысяч книг. Логика коллекции «МИРА» опирается на базовый принцип бельгийского арт-дилера Акселя Вервордта — диалог эпох: показывать современное искусство вместе с уже музейными авторами, приземлить у монастыря ХII века диджитал-капсулу, а резиденцию для художников — у древнейшего памятника белокаменного зодчества. Пока в Суздале Разумов строит новый музей совриска, предметы из собрания путешествуют по выставкам от Русского музея до Центра «Зотов» и Эрмитажа: весь архив центра «МИРА» оцифрован.
Текст: Ксения Гощицкая
Как у ворот суздальского монастыря приземлилась мультимедиа-капсула «Коллайдер»
В марте 2025-го вы, творческое сообщество «МИРА», запустили в Суздале еще один объект будущего музейного хаба, который, кроме уже существующих центра «МИРА» и выставочного пространства «Ларец», будет состоять из музея современного искусства и музея советского визионера Алексея Гастева, изучавшего научную организацию труда. Что это за зверь такой — «Коллайдер»?
Дмитрий Разумов: Наша новая площадка, мультимедийная платформа для цифрового искусства и VR/AR-проектов. Мы бережно и любовно отреставрировали купеческий дом XIX века, а внутрь поместили совершенно нереальный объект — гигантский экран-колодец пяти метров в высоту и двенадцати в ширину. Он был спроектирован в России, а создан в Китае специально для нашего пространства — долго пришлось потрудиться над особенными плавными линиями углов.
Андрей Бартенев: Я ведь заядлый коллажист, и у меня калейдоскопическое сознание: и вот «Коллайдер» — это такой калейдоскоп. На открытии проекта было человек пятьсот — кураторы, музейщики, коллекционеры, пресса, друзья — и кто-то восхищенно прошептал: «Эту бы инсталляцию — да в Дубай!» Простите, и Александровский монастырь тоже туда повезем? Для «Коллайдера» очень важен контекст: вот вы стоите у ворот монастыря, основанного самим Александром Невским, делаете два шага — и попадаете внутрь нашей капсулы, где сейчас демонстрируется абстрактная объемная анимация петербургского художника Максима Свищева. И происходит схлопывание! В Дубае невозможен такой эффект, это будет просто еще одна магазинная побрякушка. Здесь важна красота реки Каменки, ее изгиб, возвышенность ландшафта. Суздаль настолько великолепен и умиротворен, что здесь как будто не предполагается никакого диджитального воздействия — и вдруг раз! — резкий контраст. К нам в «Коллайдер» приходил настоятель монастыря, внимательно все посмотрел. Не знаю, какие выводы он сделал, но критики я не услышал.
Цифровое искусство редко собирают — это сложное медиа: запарно хранить, дорого экспонировать, непросто понять.
Дмитрий Разумов: У нас в «Коллайдере» вообще ничего не нужно понимать. Просто заходишь — и чувствуешь. Пока мы всё технически налаживали и думали над строительными деталями, то провели, скажем так, под воздействием работы Свищева часы. И оттуда вообще не хочется уходить, медитация невероятная. Кстати, эта цифровая инсталляция, «Диджитал ТЕСТО», — результат арт-резиденции Максима в соседнем с Суздалем селе Кидекша, которую мы запустили в 2023 году в реконструированной избе напротив церкви Бориса и Глеба ХII века.
Андрей Бартенев: Кидекша — это просто безумная красота, настоящий портал. Такая бесконечная дуга, горка, которая катится в речку, — совершенно удивительный экран. Воздействие этого места меняет художника, вынимает все самое светлое из его сердца и приносит в материал, понимаете? Вообще, я вам честно скажу: когда мы задумали этот проект, я обратился к звездным мультимедиахудожникам по всему миру, но получил либо ноль ответа, либо был перенаправлен к продюсерам. И тогда я понял, что это отличный знак: нужно думать глобально, а действовать локально — и выбрал Свищева (в коллекции «МИРА» у нас уже была одна из его деревянных крупноформатных скульптур) — его видеоабстракции достаточно оптимистичные и созидательные. Моя пояснительная и оправдательная внутренняя стратегия сообщила — он подходит идеально. Единственное, о чем я попросил Максима перед резиденцией: учитывать контекст места. Но я знал, что так и будет, — это магия Суздаля. Когда мы открывали «Ларец», первый проект нашего будущего музейного хаба, то вот эта бревенчатость, дыхание живого дерева избы сразу же вступили во взаимоотношение с современным искусством: мы только повесили работу, как пространство ее всю обсосало, обгрызло, проникло порами и пропитало. И всё — произведение стало частью среды. А она как теплое одеяло — все готова накрыть, принять, пожалеть, полюбить. В Суздале художники очень хорошо себя чувствуют. У нас в резиденции были и поэт «русского бедного» ассамбляжа Алексей Лука (его выставку мы делали в коллаборации с материнской галереей автора Ruarts), и художница Ирина Затуловская — она придумала трогательный и красивый проект вывесок в стиле наивного искусства Пиросмани, которые написала на «найденных объектах»: листах железа, старых досках и обрывках тканей. А Алексей Куклин закончил в Кидекше серию своих абстрактных ритмов, написав два шедевра в духе геометрического поп-арта, — оба они теперь в нашей коллекции «МИРА».
В арт-сообществе все только о ней и говорят. Из чего же она состоит?
Дмитрий Разумов: Очень сложный вопрос. Я, честно, не знаю, как объяснить. Сам постоянно думаю: как все это вообще оказалось в одном месте? Тем не менее у нашей коллекции есть внутренняя логика — постоянное сопоставление и диалог эпох, жанров, художников. Нам хотелось показать, что актуальное современное искусство — продолжение богатейшей традиции и абсолютно новаторских идей, мощно возникавших в России на всем протяжении ХХ века.
Андрей Бартенев: Объединения, которые в начале ХХ века занимались различными эксцентричными исследованиями, — футуристы, ФЭКС, «Ничевоки» — в отличие от более четких супрематистов и конструктивистов, практически были стерты со страниц истории искусства в конце 1930-х. Только волной оттепели 1960-х эксперименты продолжились и в СССР стало развиваться, например, кинетическое искусство. Мы нашли альбомы Льва Нусберга, одного из основателей группы «Движение», который начинал с геометрической абстракции и пришел к созданию кинетических объектов. Еще в нашей коллекции есть роскошная коллекция фотографий Александра Григорьева со снимками перформансов группы в Суздале и в Крыму. Нам интересно всё нестандартное, все сферы и уровни художественного производства, включая ткани, фотографию, объекты, макеты, стекло, книжную графику. Например, мы собрали архив вхутемасовца Александра Быховского, который работал в стиле кубофутуризма, потому что чем он только не занимался: от архитектуры до декоративно-прикладного искусства и театральной сценографии.
Дмитрий Разумов: Многие художники начала ХХ века были визионерами-экспериментаторами, проектировали совершенно инновационные больницы, кинотеатры, ДК. Или вот филоновская ученица Любовь Тагрина. Ее наследие вообще не изучено, на всех больших выставках она через запятую упоминается в биографии учителя, но ее работ нигде нет. Я купил потрясающий портрет Павла Филонова кисти Тагриной у нашего друга, нью-йоркского коллекционера, а еще у него нашлись рисунки и преподавательские штудии самого мастера. Мы следим за сотней аукционных домов, просматриваем миллионы вещей и вытаскиваем то, что нам кажется визуально интересным, странным, диким, симпатичным, классным. Вот эта дикость, наверное, решает. Как-то мы случайно купили сумку художницы по ткани Людмилы Маяковской (да, сестры поэта), с нанесенным аэрографическим методом принтом — совершенно невероятная редкость. И вот эскизы тканей ее подруги Веры Латониной — они вместе придумали выдувать краски через трафарет. Тут почему-то русский народный костюм начала прошлого века лежит. Как он сюда попал? От жадности! Мы профукали на парижском аукционе невероятной красоты театральные костюмы Натальи Гончаровой, но нашли какие-то очень похожие. Подумали, что нам они могут пригодиться. И, естественно, схватили. Обсуждаем покупки втроем — в нашей команде кураторов «МИРА» состоит еще Вероника Ушакова.
Как это фактически происходит? Приходят Вероника или Андрей с безумными глазами и говорят: «Я тут такое купил!» Бывает, что вы друг друга по рукам бьете?
Дмитрий Разумов: Примерно так дела и обстоят, да. Мы ворчим, бьем по рукам, но ничего не помогает. Каждый из нас может купить что-то не посоветовавшись, что меня, конечно, немного бесит, но что тут сделаешь. Мы не устанавливали права вето, но все же стараемся договариваться. Редко покупаем целыми архивами, как правило, все-таки точечно.
Как встретились работы эксцентриков двух веков
Как в коллекции «МИРА» обстоят дела с современным искусством?
Дмитрий Разумов: Кажется, что с современным искусством всё в порядке, хотя и тут у нас на первый взгляд «бессистемно» — ни Кабакова, ни Рогинского… Такого джентльменского набора у нас нет.
Джентльменский набор! Просто лучшее определение! Спасибо, я взяла в свой арт-вокабуляр.
Дмитрий Разумов: Ксения, мои и ваши знакомые — музейщики и коллекционеры — похоронят меня за такие слова и не будут приезжать к нам в Суздаль. Конечно, существует прочный бетонный фундамент, но у нас свой путь — дышащая изба на деревянных сваях. Нам хотелось обойти хрестоматию из десяти-двадцати имен, не было задачи собирать общепризнанные шедевры.
Но они как-то тоже подсобрались, да? Я вот «Гребцов» Гурьянова вижу, а там за ними что? О, шелкография Тимура Новикова.
Дмитрий Разумов: Подсобрались, да. Ладно, Кабаков у нас тоже есть. Но тяготеем мы все равно больше в сторону шального, иррационального, малоизвестного.
Андрей Бартенев: У нас есть абстрактные портреты Кати Щегловой — большая работа прямо на входе в хранилище «МИРА» висит. А вот огромный живописный холст экс-граффитчика Вовы Перкина, который придумал свой жизнерадостный абсурдистский стиль «перкинизм». И «наш Климт 2.0» Костя Горелов, молодой московский художник-самоучка. И фотоработы визионера и перформера Саши Фроловой с ней же самой в главной роли. И автопортреты экс-манекенщика и художника Данилы Полякова, который сейчас увлекся работой с тканями. Мы собираем многих, но для себя выделяем эксцентриков и экспериментаторов.
Кстати, а как вы вообще стали работать вместе?
Андрей Бартенев: Как-то бизнесмен и меценат Вадим Дымов уезжал в отпуск с супругой Женей Зеленской и пригласил меня на это время пожить в их суздальском доме. Я приехал, была зима, я поскользнулся возле Гостиного двора на каком-то леднике и сломал руку. Дима, с которым мы только что познакомились, повез меня в госпиталь в Москву — по дороге мы так разговорились, что с тех пор вместе занимаемся и собиранием коллекции, и строительством будущего музея.
«Бриллиантовая рука», получается. Но у коллекции ведь уже была основа?
Дмитрий Разумов: Раньше я довольно много собирал для себя. Например, две картины из той жизни этим летом отправились на выставку про собак «Лапа на счастье» в Русский музей — живопись основателя ленинградской школы книжной графики Владимира Лебедева и портрет с собакой Осипа Браза, ученика мастерской Ильи Репина в петербургской Академии художеств. Мы часто даем работы в институции. Иногда Андрей пытается меня остановить, чтобы впервые показать наши хиты и наш взгляд на коллекцию, когда мы достроим свой музей в Суздале, но я думаю, если есть возможность поделиться сегодня, надо это делать, а то, как пел Виктор Цой:
Завтра где-то, кто знает где?
Война, эпидемия, снежный буран,
Космоса черные дыры.
Да, работы Цоя и петербургских художников «Новой академии изящных искусств» у нас, конечно, тоже есть. Мы в какой-то момент поняли, что это абсолютно нам отзывается, и собрали прямо массив.
Тоже не смогли остановиться?
Дмитрий Разумов: Не смогли. Ты уже запеленговала «Гребцов» Георгия Гурьянова и его автопортреты. А вот, например, Иван Сотников и его психоделичный дирижер мухоморов. Вот шелкографии Тимура Новикова. Из продолжателей неоакадемизма у нас есть Егор Остров, Олег Котельников, Белла Матвеева, Андрей Помулев. Сейчас мы работаем над большим трудом — двухтомником «Ленинградский ноль».
Андрей Бартенев: А вот работа нонконформиста Евгения Козлова, она есть на фотографии со свадебного ужина Джоанны Стингрей и гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна, висит прямо над столом. Кстати, вот и эта фотография. Козлов еще делал обложку пластинки «Начальник Камчатки». Художник и искусствовед Андрей Хлобыстин в 2024-м курировал выставку «Ленинградский ноль» в «Ларце» — она посвящена перформансу Тимура Новикова и Ивана Сотникова, которые на одной из экспозиций нонконформистов объявили дырку на стене «ноль-объектом». И тема обнуления захватила воображение богемы. Мы любим «Новую академию» за то, что эти новаторы создавали самодельные книги, альтернативную моду, параллельное кино, фантастические музыкальные инструменты, искусство новых технологий — видеоарт «Пиратское ТВ» и даже дигитальное искусство. Те, кто читал тексты Тимура Петровича Новикова, помнят, как он ценил словесный пластицизм, который повлиял на изобразительную форму. Я тоже так или иначе отношусь к таким пограничным эксцентрикам и понимаю, что в этом опыте присутствует предсказание будущего.
Мы с большими сачками носимся и собираем всё, что попадается, а потом внимательно рассматриваем, как этот улов может влиять на способность воспринимать, размышлять, реагировать. Любое искусство адаптирует человеческое сознание к постоянно надвигающемуся монолиту будущего. И без него никак нельзя, потому что если не будет такого постоянного тренинга, то произойдет психический дисбаланс, стресс, который приведет к большому количеству конфликтов, не столько геополитических, сколько конфликтов личности. Технологии развиваются, и с ними должен меняться человек. И вот искусство занимается этим ежесекундным изменением сознания человека. Мы и суздальский хаб планируем как контраттракцион, чтобы все полушария мозга зрителя были задействованы: после коллайдера — в музей великого исследователя Гастева, потом современное искусство, все это на фоне природы и старинной архитектуры, и вишенка — «Аквариум», наш новый проект.
Рассказывайте скорее!
Андрей Бартенев: Это такой объект со стенами из цельного стекла, который на ночь будет закрываться ставнями и модифицироваться в такой как бы гараж. Внутри будет большой медленно вращающийся круг, где мы хотим экспонировать скульптуру и редкие модели автомобилей. И еще скоро откроется «Луковичный домик» — купеческая изба, которая была построена на огороде, где выращивали лук. Думаю, там разместится коллекция детских книг — у нас в собрании «МИРА» большая подборка.
Дмитрий Разумов: Когда мы начали просматривать аукционы, быстро стало ясно: то, что было бы интересно купить за вменяемые деньги, — это именно печатные материалы. И мы стали их понемногу собирать.
И опять — увлеклись?
Дмитрий Разумов: И увлеклись. Приходят гости и говорят: «А, так у вас тут библиотека». Но нет, это гигантский архив книжного и журнального печатного авангарда 1910–1930-х годов, больше двадцати тысяч журналов и примерно тысяч десять книг. Когда-нибудь мы сделаем большую выставку, посвященную нашей книжной коллекции. И так, думаю, мы вернем некоторые важные имена, например полузабытого художника-графика Михаила Тарханова, который, создавая дизайн переплетов и форзацев, экспериментировал с техниками ксилографии, офорта, монотипии и в 1920-х изобрел собственную технику абстрактной акватипии. Мы задумали выпустить про него большую книгу.
Планируете открыть свое издательство? Ведь только что вышел первый номер вашего альманаха «МИРА illustrated». Что это за проект?
Дмитрий Разумов: Семье нашего хранителя и сокуратора Вероники Ушаковой принадлежит издательство «Красный пароход»: там мы и печатаемся и всем рекомендуем. Недавно у них вышел релиз сборника статей Аркадия Ипполитова «Мир — Россия — Петербург — Эрмитаж», посвященный памяти искусствоведа. «МИРА illustrated» — некоторый тизер того, как мы планируем устроить музей и как вообще понимаем нашу коллекцию. Альманах собран как диалог эпох, стилей, медиумов и средств передачи. Он сверстан парно: на одной странице, допустим, фотография авангардиста Родченко 1920 года, на второй — трафарет петербургского мастера печати Юрия Штапакова из 2020-х.
Андрей Бартенев: Мы хотели столкнуть черно-белую фотографию с монохромом других художественных медиумов: живописи, рисунка, ткани, полиграфии, скульптуры. И альманах получился такой витриной нашей научной лаборатории «МИРА», которая призвана вдохновлять умы на создание смысловых перекрестков, на синтезирование историко-культурных фактов и исследование изобразительных философий прошлого, чтобы создать изобразительные модели будущего.

Вероника Ушакова
сокуратор и хранитель коллекции «МИРА»
Как арт-консультант я вела разных коллекционеров, которые практически всегда точно знают, чего хотят, и ищут это годами и десятилетиями: иногда очень конкретные вещи, иногда что-то по направлению, художнику или теме. При формировании коллекции «МИРА» мы шли вообще от обратного — абсолютно чистым и незатуманенным глазом стали смотреть: а что вообще есть на арт-рынке? У Разумова и Бартенева был единственный критерий — не как у всех, чтобы показать, что мир искусства намного богаче и шире общепринятого в нашей арт-среде набора имен. Мы совершенно непоследовательным, предельно эмоциональным, но в то же время органичным путем собираем всего по чуть-чуть, и в итоге уже ясно, что это не влезает ни в один мыслимый и немыслимый музей. Никто заранее не планировал иметь в собрании макет малоизвестного конструктивиста Владимира Штраниха или архитектурные штудии и невероятное художественное стекло ленинградского экспериментатора Бориса Смирнова. Но мы случайно нашли его наследника, я поехала к нему куда-то под Петербург и купила, наверное, 600–700 листов поздней графики художника. Самое сложное — мы совершенно не можем остановиться. Моя жизнь теперь полностью подчинена процессам собирательства — круглосуточно, без выходных, отпусков, Новых годов, дней рождения нужно общаться по вопросам коллекции. Покупаем много печатной графики — за эти пять лет мы обросли гигантским количеством дилеров, наследников, каких-то подпольных букинистов, торговцев на рынках и в переходах Москвы и Петербурга, продавцов «Авито» и «Мешка», известных и неизвестных коллекционеров. Сначала был хаос, но мы перебрали собрание уже раза три, осмыслили и разложили обложки согласно визуальным темам: цирк, треугольники, цвет, фильтр, монтаж, диагональ, шрифт. По смыслу тоже есть секции: например, вот два ящика изданий Серебряного века — все же это не совсем наш фокус. К нам в хранение пару недель назад пришел наследник визионера и одного из идеологов конструктивизма Александра Родченко и сказал: «Да у вас тут пещера Али-Бабы». Он совершенно прав, но дверь в нее открыта для всех. Мы оцифровали всю коллекцию, включая печатную графику, и даем профессионалам индустрии пароль по запросу. Делиться — это хорошо и правильно. Мы хотим показывать наше собрание в любых форматах: что не попадет на экспозиции, будет напечатано в книгах, или придумаем что-то новое. За последние два года мы сотрудничали со многими музеями: Третьяковской галереей, «ГЭС-2», Центром «Зотов», Еврейским музеем. Неохваченным остался только Эрмитаж, но в этом году в Николаевском зале будет проект, куда мы тоже отправляем работу.
Фото: Саша Мадемуазель
Свет: Александр Симонов

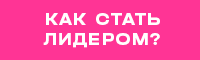
















Комментарии (0)