Вот дневник Тани Савичевой, он впервые покинул Ленинград. Вот блокадная квартира с перекрестиями на окнах. Вот картины и скульптуры художников, которые были созданы во время блокады. Вот голос 13-летней Лизы Савичевой (внучатой племянницы Тани), которая говорит миру, что Савичевы живы, хоть в учебниках и написано обратное. «Я говорю с тобой из Ленинграда» – главная экспозиция художественного музея прошлого года и эмоционально одна из самых сложных за многие годы для его команды. Елена Пестрикова, сокуратор проекта, – о 120 блокадных дневниках, о том, как звучит выставка, общей истории Горького и блокадного Ленинграда.
Выставка началась с большой дружбы Русского музея и региона. В прошлом году, к 80-летию со дня полного снятия блокады, коллеги готовили выставку «Помним». И выбирали регион, которому могли бы доверить эту тему и разработку продолжения проекта. К нам обратилась Алла Юрьевна (Алла Манилова, директор Русского музея. – Прим. ред.), и мы тогда быстро нашли смысловые и фактические связи Горьковской области и блокадного Ленинграда. В итоге на основе коллекции блокадной живописи, графики и скульптуры из фондов Русского музея у нас получилось создать очень эмоциональный проект, который мы дополнили инсталляциями, интересной выставочной застройкой и аудиоспектаклем по блокадным дневникам и воспоминания.
И личных, и общих пересечений действительно оказалось немало. В Горьковскую область по «Дороге жизни» вывезли более пяти тысяч детей из блокадного Ленинграда. Среди них была и Таня Савичева. Кроме того, очень многие горьковчане были защитниками Ленинграда. В том числе, например, мой дед, он воевал на «Дороге жизни», был морпехом, участвовал в обороне Ленинграда. После войны вернулся в Горький, буквально несколько лет здесь прожил и уехал обратно, просто не смог расстаться с Ленинградом, и там, в общем-то, всю жизнь и прожил.
Первое название проекта было другим: «Ленинградцы, дети мои». Но мы поняли, что в Нижнем оно вряд ли будет откликаться. И мы сделали что-то наподобие фокус-группы. Каждый из кураторов выставки предложил по нескольку названий, составили из них список и отправили абсолютно разным людям из своего окружения. И так выбрали «Я говорю с тобой из Ленинграда» (слова из стихотворения, написанного в 1941 году поэтессой Ольгой Берггольц, автором крылатой фразы «Никто не забыт, ничто не забыто». – Прим. ред.). Оказалось, оно работает практически на всех: почти 90 процентов опрошенных проголосовали за него.
Экспозиция была построена по принципу пути из блокадного Ленинграда: первая часть – о самых сложных месяцах, смертном времени, как его называли, потом эвакуация и дальше уже более светлый период, в Горьковской области. У нас была задача передать слово жителям блокадного города, через дневники и аудиоспектакль дать слово самому городу. Для чего в проекте было создано два уровня звука. На первом – интершум города: метроном, бомбежка; в той части выставки, где у нас располагалось пространство в виде черного коридора, который символизировал «Дорогу жизни», эвакуацию по Ладоге, были звуки техники, идущей по льду и мокрому снегу. На втором – аудиоспектакль, голоса пяти героев, которые вели зрителя через всю выставку, рассказывая свою историю блокады.
Помимо того что я была куратором, я также автор сценария аудиоспектакля. Перед тем как взяться за его сценарий, я перечитала более 120 блокадных дневников. Была зима, когда я работала с этими материалами, и я поймала себя на мысли в какой-то момент, что просто не могу себя, например, заставить выйти на улицу, а еще постоянно хотелось есть. Потому что в дневниках все время про голод и холод, про артобстрелы, бомбежки, про то, что выходить нельзя, что снаружи опасность. Приходилось буквально физически возвращать себя в реальность, объяснять себе, что ты не там, ты тут. Наталья Борисовна Соколова (замдиректора НГХМ, куратор выставки «Я говорю с тобой из Ленинграда». – Прим. Ред.) делилась схожими ощущениями. Тоже, например, говорила о постоянном, навязчивом голоде.
В блокадном Ленинграде начинали вести дневники даже те, кто никогда этого не делал, чтобы просто не сойти с ума. Дневник был некой формой структурирования жизни, попыткой привязаться к чему-то осязаемому. И вот таким поделюсь наблюдением: дневники детей сентября 1941-го – они именно детские, из текста понятно, что пишет ребенок, но те же самые дневники февраля 1942-го совсем иные, их будто бы вели уже взрослые люди. И так практически во всех блокадных детских дневниках, которые я читала. Страшная история быстрого взросления.
Подлинник дневника Тани Савичевой у нас на выставке – жест большого доверия со стороны Русского музея и Музея истории Петербурга. Дневник ведь ни разу не покидал города и даже в Музее истории выставлялся всего дважды. Но нам было действительно очень важно показать именно оригинал, потому что история Тани Савичевой – это, конечно, главный нерв проекта.
В одной из газет Санкт-Петербурга я случайно нашла информацию о том, что потомки брата Тани Савичевой на самом деле живы. И мы тут же связались с ними. Познакомились с Лизой Савичевой, внучатой племянницей Тани. Она сейчас примерно в том же возрасте, что и Таня, когда ее не стало. И мы предложили Лизе озвучить эпизод для аудиогида, решили, что никто из нас и в том числе я как сценарист не будем трогать их текст. Для нас было важно дать им слово без посредников и редакции.
Лиза, кстати, поделилась с нами интересной историей, которая с ней произошла в школе. У нас ведь в учебниках написано, что Савичевы все умерли. Есть такое историческое заблуждение. И учительница Лизы на одном из уроков сказала тоже, что Савичевы все умерли. А она ей – что нет, не все. Вот же я. Я ведь жива. А учительница ей тогда ответила, что раз в учебнике написано все, значит все. И у нас в аудиогиде есть очень эмоциональный эпизод, когда Лиза говорит, что хочет прокричать всему миру, что мы не умерли, мы живы.
Инсталляция с санками, как и интерьер блокадной квартиры, – идеи Александра Чекмарева и Арины Огрызко, коллег из «Бюро музейного проектирования 78», которые занимаются разработкой архитектуры наших проектов в Манеже. Санки были фактически единственным средством передвижения в блокадном Ленинграде. На них возили и воду, и еду, и умерших людей. Если посмотреть кинохронику, там везде санки. И мы хотели показать масштаб этого образа. У нас санки в центре выставки подхватывал вихрь, поднимал их в небо, они действительно стали таким, наверное, одним из самых ярких образов проекта. Как, впрочем, и блокадная квартира, где мы показали в том числе перекрестную проклейку окон, защищавшую стекла от ударной волны бомбежек.
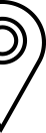 | Съемки проходили в Нижегородском хоровом колледже им. Л.К. Сивухина. Он был основан в 1946 году как Горьковская капелла мальчиков, которая представляла собой школу-интернат для сирот ВОВ. В позапрошлом веке в этом доме на пути в сибирскую ссылку останавливались декабристы – Оболенский, Муравьев и другие. А позже пару дней жил Пушкин, о чем свидетельствует бронзовый барельеф на фасаде. |
Текст: Владимир Трепитов
Фото: Дмитрий Гуричев
Стиль: Анастасия Копейкина
Макияж и волосы: SALON SVOBODA
Одежда: URBAN SOUL
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

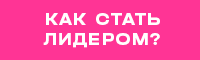



Комментарии (0)