Нижегородскому благотворительному фонду «Алиса» – 5 лет. За это время его команда во главе с психологом и «человеком-табличкой» Екатериной Молчановой помогла более тысяче детей не разлучиться с семьями и многим взрослым стать приемными родителями. Мы поговорили о том, как устроен процесс социализации подростков в Нижнем, почему «брутальным папам» тяжело принимать помощь и зачем люди идут в социальную сферу. А еще о предубеждениях, статусе «сироты» и «злых тетках из опеки» (спойлер: они, как правило, помогают, а не вредят).
Как сейчас работает фонд?
У нас несколько направлений. Первое и самое важное – работа с кризисными семьями, где есть риск помещения детей в специальное учреждение при предупреждениях опеки. Все воспринимают ее как страшный орган, который всех забирает. На самом деле это структура, которая занимается защитой прав и интересов несовершеннолетних.
В целом наша миссия – сохранение детей в кровных семьях. Все остальное – работа с ребятами из детских домов, помощь приемным семьям, кризисный центр для мам, центр социальной адаптации для выпускников – это инструменты, чтобы дети не становились социальными сиротами.
Любой кризис – это временная история. Случаются трудности: потеря работы, смерть члена семьи, депрессия у мамы (которую, к сожалению, недооценивают – все списывают на лень, но это не так). Конфликты между родителями, развод, насилие – все это сильно влияет на состояние семьи.
Нередко одним родителем остаются не только мамы, но и папы. Мы работаем по всей области, у нас много семей из сельской местности. Сидит там такой брутальный мужчина и отказывается от помощи куратора-девушки. А потом случается кризис – отец, например, начал выпивать, – и детей забирают. Куратор звонит и говорит: «Мы же предлагали помощь». И звучит фраза: «Я с бабой ничего решать не буду». Поэтому у нас работает прекрасный молодой человек Максим, который занимается как раз семьями во главе с папой. Мужчинам очень сложно просить помощи и быть в уязвимом положении, особенно перед женщиной.
Кому еще вы можете помочь?
У нас есть категория семей, где дети уже по каким-то причинам в учреждении. Но в большинстве – это временное помещение. Семьи в такой ситуации не попадают ни в одну категорию, с которой работают органы профилактики, потому что детей у них уже нет. Но помощь все еще нужна. С ними мы тоже работаем, иногда совместно с учреждениями.
И еще одна категория – родители, лишенные прав через суд. Им давали шанс исправиться, но они не выполнили условия. Здесь мы занимаемся восстановлением родительских прав и реинтеграцией ребенка из учреждения обратно в семью. Изъяли, поместили в приют, потом дали путевку в детский дом – все эти переезды становятся очень травматичным опытом. Поэтому требуется реинтеграция обратно в кровную семью и работа над детско-родительскими отношениями.
Вчера я досмотрела документальный фильм «Закладка». Среди героинь – молодые мамы, которых посадили и лишили родительских прав.
Нет такого закона, который лишал бы прав человека, отбывающего наказание. Ребенок помещается в детский дом и приобретает статус «оставшийся без попечения родителей». Но это временная история, его могут взять в приемную семью. Родителям, которые не лишены прав, но имеют зависимости, вроде алкоголизма или наркомании, очень сложно справляться самостоятельно. Это самая, к сожалению, распространенная причина того, что дети попадают в детский дом.
Дети в детских домах – это в основном социальные сироты. То есть у них есть родители. Их юридический статус – «дети, оставшиеся без родительского попечения». Произошла некая подмена понятий: все привыкли, что если ребенок из детского дома, то он сирота. Фактически нет. Дети часто не согласны с таким статусом: когда ребенка называют сиротой, он спорит: «Нет, у меня есть мама и папа».
Большинство детей имеют живых родителей и, более того, поддерживают с ними какие-то контакты. Просто родители лишены родительских прав. Максимум 20% – это дети-сироты, у которых нет родителей: они умерли или ребенка оставили при рождении (последних совсем немного). У остальных родители есть. Либо они становятся сиротами в процессе.
Когда конфликты в семье становятся опасными и могут вылиться во что-то серьезное – например, лишение родительских прав?
Бывает, родители понимают: ребенок ничего про себя не рассказывает (вечное «Все нормально»), в школе проблемы, учителя жалуются. Если семья не алкоголизированная, но случился кризис, мама может заявить: «Я читала книжки по психологии. Что вы мне тут объясняете?» У тебя глаз дергается, потому что прочитать информацию и разобраться с собой – это разные вещи. Из-за этого возникает много сопротивления.
Самое опасное – потерять контакт с ребенком. Например, разбилась чашка. Реакция может быть разной. Кто-то спросит ребенка, не поранился ли он, предложит помощь. А можно начать скандалить: «Идиот, опять ты все испортил! Руки откуда растут?» Второй вариант, к сожалению, встречается чаще.
Как в социальной сфере изменилась ситуация за последние годы?
Стало лучше, в том числе из-за законов – они стали мягче, государственная политика направлена на то, чтобы дать больше шансов сохранить семью. Пять лет назад ситуация была гораздо хуже.
В Нижнем или в России?
Везде. Одна из главных причин кризисов – пандемия. Тогда очень много семей развалилось.
Если рассматривать с точки зрения кризисов, то есть нормативные: кризис трех лет, среднего возраста, самоопределения. А есть ненормативные – потеря работы, развод и т.д. Казалось бы, развод, люди не сошлись характерами, но дети страдают. Из-за этого очень много подростковой психики идет под откос. Безусловно, лучше разводиться, чем жить ради детей в постоянных конфликтах. Но с детьми нужно проводить большую работу.
Мама с папой продолжают быть мамой и папой, но фактически папы часто исчезают. Это огромный бич нашего общества. Разводы болезненны – нужно что-то делить, нередко родители начинают манипулировать детьми.
А что делать девушке, которая жила на территории мужчины? «Ну окей, разводись и живи одна как хочешь». Так в один момент она остается без средств существования. А если это девушка в декрете с ребенком до полутора лет? На работу выйти не можешь, потому что некому сидеть с ребенком. В садик пока тоже нельзя отдать, а ясли есть не везде и там мало мест. Самая частая позиция общества в таких ситуациях: «Сама нарожала, сама бери ответственность». Да она ответственность никому и не передавала и от нее не отказывается. Но что делать? Тупик.
Государство может разместить ребенка в специальное учреждение, пока мама ищет работу и жилье. Но с какой психикой выходят дети, которых оторвали от мамы и поместили в детдом? Это огромный травматичный опыт. И когда мама забирает ребенка, их отношения без специалистов уже не восстановить. Потому что она снова пашет одна, ребенок в садике, и с этим невозможно ничего сделать без дополнительной поддержки. До людей сложно донести, что в таких ситуациях нужно помогать маме. Мы, собственно, по этой причине в какой-то момент открыли свой дом для мам.
Когда он появился?
Год назад.
Как вы успеваете запускать столько проектов?
Я человек-табличка и логик. У нас большой цикл профилактики социального сиротства. Если не работать с детьми в детском доме, то они выходят из него абсолютно несоциализированные, с огромными травмами, не умеющие строить семью. Куда попадают в большинстве случаев такие ребята? Обратно в детдом, это бесконечный семейный сценарий. Но дети не должны жить в детском доме. Если не могут в кровной семье, пусть живут в приемной. Но она тоже должна быть качественно подготовлена.
Некоторые взяли ребенка, как-то дорастили до 18 лет и после совершеннолетия говорят: «Вот чемоданчик, там выход». Далеко не все приемные родители сохраняют взаимоотношения с детьми и наоборот.
Правда ли, что все ребята из детдомов после совершеннолетия получают квартиру?
Мой любимый вопрос. Есть такая мера государственной поддержки: детей-сирот или оставшихся без попечения родителей обеспечивают жильем. Но не всех и не всегда. Если у ребенка сохраняется квартира, или родители умерли и осталась квартира, государство новую не даст. Если ребенка изымали из квартиры по социальному найму, где он был прописан, и там еще много людей, и квадратных метров хватает (условно от 9 до 12, зависит от муниципалитета), то квартира ему не положена.
В некоторых ситуациях нам приходится доказывать факт невозможности проживания: например, дом развален и непригоден для жизни. А еще есть очередь. Это отдельный холивар. Выпускников много, квартир мало, очень сложный процесс их закупки. Плюс есть вторая очередь. В каких-то муниципалитетах, где два выпускника, найти квартиру не проблема. Но все получают жилье по месту прописки. А если это была деревня Сява? Он туда поедет, если всю жизнь жил в детском доме в Нижнем? Конечно, нет.
Даже если он не жил там, а был, например, в детском доме в Красных Баках, что ему делать в поселке Сява? Он и так не социализированный. Приедет туда и начнет пить. Жилье, которое дают в области, быстро приходит в негодность, а сдавать его нельзя. Как и получить нормальные деньги за продажу, которых хватит на квартиру или комнату в городе.
Что же делать выпускникам, которые не могут получить жилье?
По идее, все должны сначала закончить учебу, чтобы получить квартиру. Государство понимает эти проблемы: пойти некуда, на работу не устроиться после учебы. Поэтому они могут до 23 лет находиться в детдоме и учиться.
Да, ты можешь попросить помощи у опеки. Но для большинства опека – это злая тетка, которая забрала из семьи, и к ней идти нельзя.
Из детдома выходят взрослые люди, а не дети и подростки. Это очень интересный момент. Некоторые любят таскать подарки «бедным сироткам» в детские дома под Новый год. А когда дети оттуда приходят, например, в класс обычной школы, те же родители сразу кличут их «детдомовцами». Это уже не бедный ребеночек-сироточка, которому хочется вручить сладкий подарочек, а «вот этот из детдома». Восприятие этих ребят сильно меняется. Они недисциплинированные, плохо коммуницируют, у них низкая ответственность. Не потому что они плохие, а потому что их просто не учили.
У нас есть несколько историй, где ребята приходили на постинтернатное сопровождение. Мы помогали им с трудоустройством, с получением дополнительного образования. Одна девочка выучилась на мастера маникюра. Другая стала мамой, мы помогали ей с садиком и няней: ей было 19 лет – она в 18 вышла из детдома, через год вышла замуж и родила, а потом развелась. Но такие ситуации – штучные. В России менталитет такой, что обращаться за помощью стыдно: «Я что, сам не могу?».
Мы открыли небольшой центр социальной адаптации постинтерната на 9 мест, сейчас там живут два мальчика. Во-первых, это крыша над головой, когда некуда идти. Во-вторых, ребята осваивают навыки социальной адаптации – мы помогаем составить список продуктов, разобраться в работе МФЦ, устроиться на работу.
Вы сопровождаете подопечных на собеседованиях?
Да. Например, парень, который хочет стать поваром, приходит устраиваться вместе с куратором. «Назовите три своих сильных качества» – подопечный не ответит. Ты должен три года с ним работать в детском доме, чтобы он понял, какой он.
Сейчас в вашей команде 22 человека. Что всех объединяет?
Это история про ценности. В НКО все делают всё. Например, когда мы готовим фестиваль, подключается вся команда. Неважно, ты маркетолог или куратор по кризисным семьям, мы делаем это вместе, потому что задач много.
Но при этом, если мы работаем, условно, с приемными семьями, обязанности нужно разграничивать. Кто-то отвечает за непосредственное сопровождение, кто-то за сообщество.
В нашей команде есть люди, которые сами столкнулись с кризисными ситуациями. В том числе выпускники детских домов.
Некоторые говорят, что детские травмы влияют на выбор профессии. Кого много обижали, тот идет помогать, например, во врачи
В социалку нормальные люди не приходят, давайте по-честному. Здесь у каждого мотивация связана с личной историей. Возможно, самому человеку вовремя не помогли. Но все равно большинство в каком-то плане травмированные люди. У тех, кто идет в социалку, что-то «свербит». И здесь выбор: либо ты займешь профессиональную позицию, либо придешь всех спасать. Но мы никого не спасаем. С такой мотивацией люди часто выгорают. Не надо делать все за подопечного. Не надо делать так, как тебе кажется лучше. Надо садиться и разговаривать о том, чего хочет человек, но не решать за него.
Текст: Анна Горбунова
Фото: Анастасия Волкова

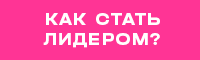






Комментарии (0)