Его пронзительная короткометражка «Мы. Дети войны» вошла в топ-5 лучших короткометражных фильмов Италии на фестивале Cultural Classic. Мы поговорили с Эдуардом о том, как объяснить современным детям, что чувствовали их сверстники в 1941-м, и как снять кино, которое поймут в любой точке мира.
Давайте с самого начала. Расскажите, как обычный (а может, необычный) уфимский парень пришел к мысли, что хочет снимать кино?
Мой путь в кино начался в 16 лет, в 2011 году. Поступил в киношколу Булата Юсупова, чтобы стать актером. Стал сниматься в короткометражках, потом в более крупных проектах. За это время я попробовал разные роли: был и художником-постановщиком в одном башкирском фильме, и даже неожиданно для себя подменил на площадке звукорежиссера – замечательную Гульнару Саитову. Именно благодаря ей я научился самостоятельно работать со звуком на съемках и в студии.
А желание снимать родилось из простой мысли: каждый хочет оставить свой след, рассказать миру свою историю, показать свое видение. Вот и я, обычный парень из Уфы, задался этой целью. Прошел большой путь от актера до режиссера и все еще продолжаю идти вперед.
Был момент, когда вы уставали от киноиндустрии?
Да, в 2019 году на год ушел из профессии. Но уже в 2020 вернулся и присоединился к кинокомпании Golden Fox. С тех пор продолжаю сотрудничество с ней в качестве режиссера и режиссера монтажа. Вместе мы сняли множество проектов, включая фильм «Мы. Дети войны».
А где вы учились режиссуре?
В 2020 году я прошел курсы по сценарному делу и режиссуре в онлайн-школе проекта «Слово земли». Также накапливал опыт на площадках фильмов и сериалов, общаясь с профессионалами. С каждым новым проектом, путем проб и ошибок, все больше понимал суть и трудности этой профессии. Но я благодарен своему прекрасному учителю, который подготовил меня к различным вызовам.
Почему вы взялись за проект «Мы. Дети войны»? Это больше личная история, желание высказаться на важную тему?
Мои прабабушка и прадедушка, когда были живы, часто рассказывали мне о своем детстве. Они родились в 1930 году, потерялись, скитались, пока их не нашли добрые люди. Это история многих людей, которые оказались в тяжелых условиях не по своей воле.
Мне очень хочется, чтобы зрители поняли: военные фильмы – не только о войне, но и о человечности, о том, как жили, как выживали, как были оставлены в сердце те раны, которые никогда не заживут.
Так часто мы забываем о тех, кто страдал, о детях, чьи жизни были разрушены войной. Их трудности, их надежды и страхи нужно помнить и осмыслять. Надеюсь, наш фильм поможет зрителям не только понять, что произошло, но и почувствовать, каково быть одним из тех, кто двигался сквозь ужас, но не потерял человечность.
В коротком метре нужно уместить большую историю в малое время. Нравится ли вам этот формат и почему?
Короткий метр позволяет выразить мысли и эмоции ярко и лаконично, без излишних деталей, это дает возможность сосредоточиться на сути истории. Я всегда считал: порой меньше – это больше. Зачем растягивать историю на полтора часа, если ее можно рассказать за 20 минут?
Вызовом в этом сценарии был именно формат. Я переписывал его несколько раз, добавляя и убирая более жестокие моменты. Иногда думал об отмене проекта, сомневаясь, смогу ли завершить то, что задумал. Но главным вызовом для меня стало ментальное состояние детей и подготовка.
Расскажите о самом съемочном процессе.
Съемки проходили в Уфе: в Затоне, Нижегородке и Черниковке. Обожаю магию кино. Внутренние и наружные виды локации часто оказываются совершенно разными. Например, старое с виду заброшенное здание, которое в фильме представляло собой обстрелянный медицинский институт, на самом деле было жилым бараком в одном из дворов на улице Гоголя.
Наверное, самое неприятное место, куда я рискнул привести детей и съемочную группу, – заброшенное здание в Затоне. Внутри было слишком грязно, много мусора и нечистот.
С погодой тоже не везло: то лило как из ведра, то жарило солнце, то поднимался такой ветер, что мы никак не могли нормально отснять дубли.
А вот юные актеры оказались настоящими героями! Честно говоря, я в шоке. Они терпели все неудобства, мои придирки и строгость как режиссера, а еще не позволяли мне опускать руки и заставляли работать до конца!
Современные дети и дети войны, кажется, из разных совершенно вселенных. Как вам удалось найти мостик между ними?
Во время читок и репетиций я делился с юными актерами тем, что могли ощущать дети в то время. Было сложно объяснить им состояние тех, кто действительно испытывал такие чувства. Они не знают этих эмоций и состояния постоянного голода, да и я слышал об этом лишь из рассказов дедушки и бабушки. Для наглядности продюсер Елизавета Сакаева предоставила документальные видео. В них не было жестоких сцен, но они доступно объясняли ситуацию и то, через что проходили дети того времени.
Как вам кажется, насколько региональное кино интересно за пределами региона? Есть ощущение, например, что в Якутии вообще свой национальный Голливуд.
Знаете, фильмы из одного региона могут зацепить зрителей по всей стране! И дело не только в том, где происходит действие. Люди любят истории о том, что их волнует: о великих людях прошлого, о проблемах, с которыми мы все сталкиваемся, или о моментах, трогающих душу. Такие темы понятны каждому, где бы он ни жил.
Но даже если фильм рассказывает выдуманную историю, без привязки к реальным событиям, он все равно может стать интересным другим регионам. Главное, чтобы история была хорошо написана, а фильм качественно снят.
И хотелось бы добавить, что Башкортостан уже закрепился на карте российского кинематографа. Только за этот год на территории республики прошли съемки 12 кинопроектов для федеральных телеканалов и онлайн-платформ.
Над чем вы работаете сейчас?
Недавно закончили монтаж комедийного фильма моего друга Ильнура Ганиева. Еще завершили проект короткометражного фильма для талантливой актрисы из Москвы Элины Закировой. Там я работал оператором и вторым режиссером.
Сейчас готовим два новых сценария вместе с компанией Golden fox и продюсером Елизаветой Сакаевой. Пишет их профессиональный сценарист Анна Григорьева. А на следующий год готовим особенный фильм. Пока не буду раскрывать все карты, но скажу, что мы серьезно подняли планку и теперь стараемся ей соответствовать.
Что лично вы вынесли для себя из этого проекта?
Я по-другому начал смотреть на проекты, на сложности и возможности актеров. Все мы абсолютно разные, и к каждому нужен индивидуальный подход. Также понял для себя, что нет предела совершенству. Когда дубль хорош, но вы снимаете снова и делаете еще лучше. Когда актеры на репетициях выдают то, что ты хотел, но на съемках из дубля в дубль переходят грань и делают лучше, чем было. Когда на монтаже ты видишь, что получается лучше, чем ты планировал и видел изначально. Это вдохновляет на дальнейшие проекты!
Как рождается сама идея для фильма? Что первым приходит в голову: образ, диалог, характер героя?
На самом деле, в голову приходит образ именно фильма, картинки, какие-то особо значимые моменты. В дальнейшем уже идет работа над сценарием, проработка и составление плана.
Чаще всего характер и одушевление персонажа формируются именно во время написания сценария. Но после завершения работы над ним я возвращаюсь, чтобы поправить не только сюжет, но и персонажей.
А где вы черпаете вдохновение для создания своих героев?
Сначала я представляю себе героев: как они выглядят, чем могут в теории заниматься, как одеваются. Характер персонажа раскрывается уже в процессе работы над сценарием. Я представляю и продумываю, как он себя ведет в разных ситуациях, с кем общается, и постепенно он оживает. Бывает, что герой сам начинает проявлять характер и мне остается только за ним следить.
Но главная магия происходит, когда в дело вступает актер. Он берет мой набросок и превращает его в живого человека. Актер делает свою работу над персонажем, размышляет, кем он является вне картины, кто он в прошлом, добавляет краски, эмоции, и персонаж становится настоящим. Мы с ним вместе дорабатываем образ, и в результате на экране появляется тот самый герой.
С какими самыми большими трудностями сталкивается молодой режиссер в России, а конкретно – в Уфе?
На мой взгляд, единственная проблема – это финансирование. Очень много волокиты с башкирскими грантами. Получить финансовую поддержку намного проще через всероссийские гранты или частные компании. Но я понимаю причину: люди, принимающие проекты, отчитываются перед вышестоящими инстанциями, и есть свои нюансы, которые нам не всегда понятны.
Текст: Эвелина Нигматуллина, фото: личные архивы героя
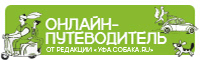













Комментарии (0)