В издательстве «Бомбора» вышла книга Линн Хельдинг «Музыкальный интеллект». Профессор университета Южной Калифорнии выпустила нон-фикшен, как любимые мелодии влияют на когнитивные способности, есть ли на самом деле «эффект Моцарта» и можно ли преодолеть страх сцены. Публикуем отрывок, в котором в поп-научной форме объясняется полезность музыки и упорства, если у вас нет врожденного таланта.
Музыка полезна?
Эволюционная психология прослеживает развитие человеческого мозга, задавая основные вопросы теории естественного отбора Дарвина: почему определенная человеческая черта или способность выжила? В чем ее польза? Как отмечает когнитивный психолог Стивен Пинкер, для большинства эволюционных теоретиков музыка в этом отношении является загадкой: «Музыка — непостижимое явление. <...> Какая польза может быть в том, чтобы тратить время и энергию на создание звякающих звуков или на грусть, когда никто не умер?» Хороший вопрос. Но Пинкер продолжает называть эту загадку «технологией чистого удовольствия» без какой-либо адаптивной функции. Таким образом, она представляют собой всего лишь «аудитивный чизкейк». «Музыка, — печально заявил Пинкер, — бесполезна».
Размышления Пинкера перекликаются с другой столь же пренебрежительной эволюционной теорией, которая рассматривает музыку как чисто гедонистическое изобретение, возникшее благодаря тому, что она «прицепилась» к развивающейся способности говорить в мозге примитивных людей, помогая как анализировать фрагменты информации на слух, так и передавать смысл посредством высоты тона и ритма. Эта теория утверждает, что с течением эволюционного времени, по мере развития речевого тракта человека и появления языка, эти акустические свойства речи (высота тона и ритм) больше не были нужны, но все равно оставались как «паразитический» пережиток, который в конечном итоге трансформировался в музыку.
Одним из тех, кто взялся за сложную головоломку живучести музыки, был Стивен Митен, пионер когнитивной археологии: «Мы можем объяснить склонность человека создавать и слушать музыку, только признав, что она была закодирована в геноме человека на протяжении всей эволюционной истории нашего вида». Митен и другие утверждают, что на эволюционной шкале времени наши первые высказывания были своего рода смешанным «музыкальным языком», который содержал как информацию, так и эмоции.
Антропологи и теоретики эволюции выдвинули и несколько других теорий о том, почему музыка сохраняется на протяжении тысячелетий. Одна из них заключается в том, что музыка, возможно, служила своего рода призывом к спариванию у ранних людей. Другая предполагает, что голос матери, убаюкивающей своего ребенка, позже превратившийся в колыбельную, мог незаметным, но значительным образом помочь обеспечить выживание вида. Еще одна теория отмечает силу музыки, связывающую общество: те, кто поет вместе, держатся вместе и защищают друг друга.
Но какие свидетельства могут доказать конечную ценность музыки? Большинство музыкантов не раз задумывались: «Зачем я это делаю?» У музыкантов, которые играют в группах с друзьями, скорее всего, есть готовый ответ для общества. Но как насчет инструменталистов, которые проводят семичасовые репетиции в одиночестве в залах без окон? Или музыкантов, которые испытывают изнурительный страх сцены и все же упорствуют?
Какая польза от музыки и почему так много музыкантов вынуждены заниматься ею? Как отмечают Гарднер и Митен, если мы сможем окончательно ответить на этот вопрос, мы, возможно, сможем объяснить человеческое существование. Но одно несомненно: в сравнении с этими экзистенциальными вопросами дерзкая аналогия Пинкера с чизкейком в лучшем случае глупа. В худшем случае она глубоко оскорбительна для музыкантов, которые сделали музыку делом своей жизни, не говоря уже о любителях музыки, для которых полезность — последнее, чего они ищут от нее.
Музыка делает нас умнее?
Хотя серьезные научные исследователи с самого начала с подозрением отнеслись к теории о том, что простое прослушивание классической музыки может улучшить когнитивные функции (не может), некоторые на тот момент, да и сейчас, с энтузиазмом рассуждали о когнитивных преимуществах активной вовлеченности в музыку через музыкальные уроки и выступления. Лидер этого направления исследований — канадский композитор и когнитивный психолог Гленн Шелленберг.
В 2004-ом году Шелленберг провел важный эксперимент с целью проверить гипотезу о том, что уроки музыки способствуют интеллектуальному развитию. В исследовании Шелленберга дети, которые посещали уроки музыки, показали увеличение IQ в среднем на 2,7 единицы по сравнению с детьми в контрольной группе. Эти данные могут казаться статистически неважными, да и сам Шелленберг отмечает, что произошло лишь «небольшое увеличение» IQ. Несмотря на недвусмысленное и провокативное название статьи («Уроки музыки увеличивают IQ»), выводы Шелленберга в конце его научного текста куда более унылые: он пишет, что в процессе формального образования «внеклассные занятия, такие как уроки музыки, играют свою роль».
На самом деле, есть много хорошо известных факторов помимо уроков музыки, которые могут улучшить результаты тестов, например, тот факт, что любое обучение может увеличить IQ. Второй известный фактор, влияющий на хорошие академические достижения, это соотношение количества учеников и учителей. Действительно, отличительная черта обучения музыке — это уроки один на один: дети, которые раз в неделю ходят на урок, получают недельную дозу нерассеянного внимания взрослого человека.
Третий и значимый для корреляции фактор непременно присутствует в жизни детей, живущих по четкому расписанию: родители. Широко известно, что «дети с более высоким IQ с большей вероятностью будут посещать уроки музыки, потому что более образованные и состоятельные родители склонны отдавать своих детей в музыкальную школу». Те же взрослые, которые возят своих детей на уроки, следят за состоянием инструмента и платят за музыкальное образование, позже помогают своим детям с домашней работой, требуют от них здоровой физической активности и обеспечивают им надлежащий отдых.
Есть очень многообещающее исследование, которое показывает, что существует прямая связь между обучением музыке и пластичностью мозга — занятия «смягчают» мозг, делая его более гибким с точки зрения восприятия информации. И все же сложно определить, какой эффект уроки музыки оказывают на умственные способности. Даже Шелленберг допускал, что множество скрытых факторов, влияющих на интеллектуальные достижения ребенка, сложно переплетены друг с другом.
Тем не менее торговые группы индустрии искусства и их сторонники регулярно преподносят исследование Шелленберга и других ученых как полностью доказанное и точное, поскольку широкая общественность верит, что искусство делает людей умнее. Это утверждение стало, по словам исследовательниц образования в области искусств Эллен Уиннер и Лоис Хетланн, «чуть ли не мантрой» родителей, учителей и политиков, а способность художественных классов улучшить результаты детей в стандартизированных тестах — это «практически евангелие для групп, защищающих искусство».
И хотя вполне можно понять желание поставить научные исследования на защиту искусства, этот порыв ошибочен. Присваивая художественному обучению достижения в несвязанных с ним областях, мы упускаем из виду то, что на самом деле может дать искусство. Этот широкий спектр гуманитарных наук учит нас креативному мышлению, навыку, который ценится все больше из-за его редкости. Нет никакого смысла пытаться измерить полезность чего-то столь драгоценного, просто прикидывая, как оно сможет увеличить характеристики в совершенно другой области.
Мы должны акцентировать внимание на подлинной ценности и важности музыки не потому, что она делает нас умнее, а потому, что она делает нас лучше.
Чтобы стать звездой сцены нужен талант?
Психологи Майкл Хоу, Джейн Дэвидсон и Джон Слобода замечают: «Широко распространено мнение, что вероятность стать исключительно компетентным в определенных областях зависит от наличия или отсутствия врожденных качеств, которые по-разному называют “талант”, или “одаренность”, или, реже, “природные склонности”».
Это совершенно не вызывающее споров мнение, опубликованное в их знаковой статье 1998 года «Врожденные таланты: реальность или миф?» тем не менее завершается ошеломительным выводом: «Врожденные таланты, как мы думаем, являются вымыслом, а не фактом». Бросая эту перчатку, Хоу, Дэвидсон и Слобода зашли гораздо дальше бесспорного наблюдения о том, что именно тренировка, а не талант в конечном счете превращает врожденные способности в достижения. Они задались целью развенчать все мифы о врожденных способностях — план, который они назвали «представление о таланте», утверждая, что «даже люди, которые, как считается, не обладают каким-либо особым талантом, могут исключительно в результате обучения достичь высот, которые ранее считались доступными только для врожденно одаренных личностей».
Уважаемый психолог и автор теории течения Михай Чиксентмихайи ворчит, что Хоу и другие «бьют дохлую лошадь в споре о природе и воспитании», что «особенно бесполезно в контексте таланта» из-за недавних исследований наследуемости определенных черт (или дарований). Что касается дарований и наследуемых характеристик, то существует много разногласий. Однако есть один параметр, в отношении которого большинство экспертов сходятся во мнении: размер тела и его частей. В таких видах спорта, как баскетбол, где рост имеет решающее значение, это следует считать врожденным даром, учитывая тот факт, что ничего нельзя сделать, чтобы добиться изменений после завершения роста в детстве. Возможно, то же самое можно сказать и о качествах, необходимых для успеха в игре на определенных инструментах, наиболее очевидным из которых является человеческий голос. Большие, выносливые голоса, необходимые для определенных оперных ролей, просто рождаются, а не создаются (хотя для полного раскрытия этого дара абсолютно необходима тренировка). Точно так же размер руки играет определенную роль в успешном обращении с клавиатурой или большим струнным инструментом.
Однако, помимо размера тела или отдельных его частей, многие критики Хоу, Дэвидсона и Слободы приводят следующую точку зрения: независимо от того, как вы это называете, у некоторых людей это есть, а у некоторых нет, и мы понимаем это, когда видим.
Даже Хоу и его соавторы признают, что, хотя они и считают талант мифом, они все же «не претендуют на то, что у них есть полный или точный ответ на вопрос "Если таланта не существует, как можно объяснить приписываемые ему явления?"». Такие феномены, как впечатляющие таланты экстраординарных людей и любопытные случаи выдающихся музыкальных способностей, постоянно используют как пример в доказательство одаренности: «Если кто-нибудь сможет доказать, что творчество этих людей можно объяснить, не прибегая к такому понятию, как природный талант, мы признаем, что таланта не существует: Моцарт, Пикассо, Шекспир, Мартина Хингис, Барышников, Паваротти».
За пределами исследовательских лабораторий учителя музыки и тренеры рассказывают истории с передовой, случаи, когда чрезмерных усилий, отличной подготовки, благосклонных спонсоров и щедрой финансовой поддержки было просто недостаточно для значительных достижений. Отсутствие таланта обычно предлагается в качестве объяснения неудачи. Если это предлагается непосредственно потерпевшему неудачу, некоторые рассматривают это как своего рода эвтаназию, милость, предлагаемую для прекращения усилий борца. Но музыканту, получившему такой вердикт, это до боли напоминает популярное оскорбление: «Когда раздавали таланты, вы, должно быть, стояли за дверью». Разрушительные последствия такого черного юмора — это то, что побудило Хоу и коллег разрушить миф о таланте, а также то, что вызвало движение за повышение самооценки.
Тем не менее даже если талант как конструкт реален, исследование Баумайстера, Твенджа и Кэмпбелла показывает разрушительные последствия чрезмерно завышенных представлений о таланте. Для стремящихся к росту людей, добивающихся высоких результатов в моторных сферах, упоминание таланта в качестве объяснения их успеха откровенно оскорбительно, как описано звездой баскетбола НБА Рэем Алленом: «Когда люди говорят, что Бог благословил меня прекрасным броском в прыжке, это реально выводит меня из себя. Я говорю этим людям: "Не подрывайте работу, которую я выполняю каждый день". Не в некоторые дни. Каждый день».
Важнейший вопрос для музыкантов заключается не в том, существует ли талант сам по себе, а в следующем: насколько разрушительны последствия признания таланта как для тех, кто втайне боится, что у них его нет, так и для тех, кто верит, что обладает им в наибольшей степени?
16+


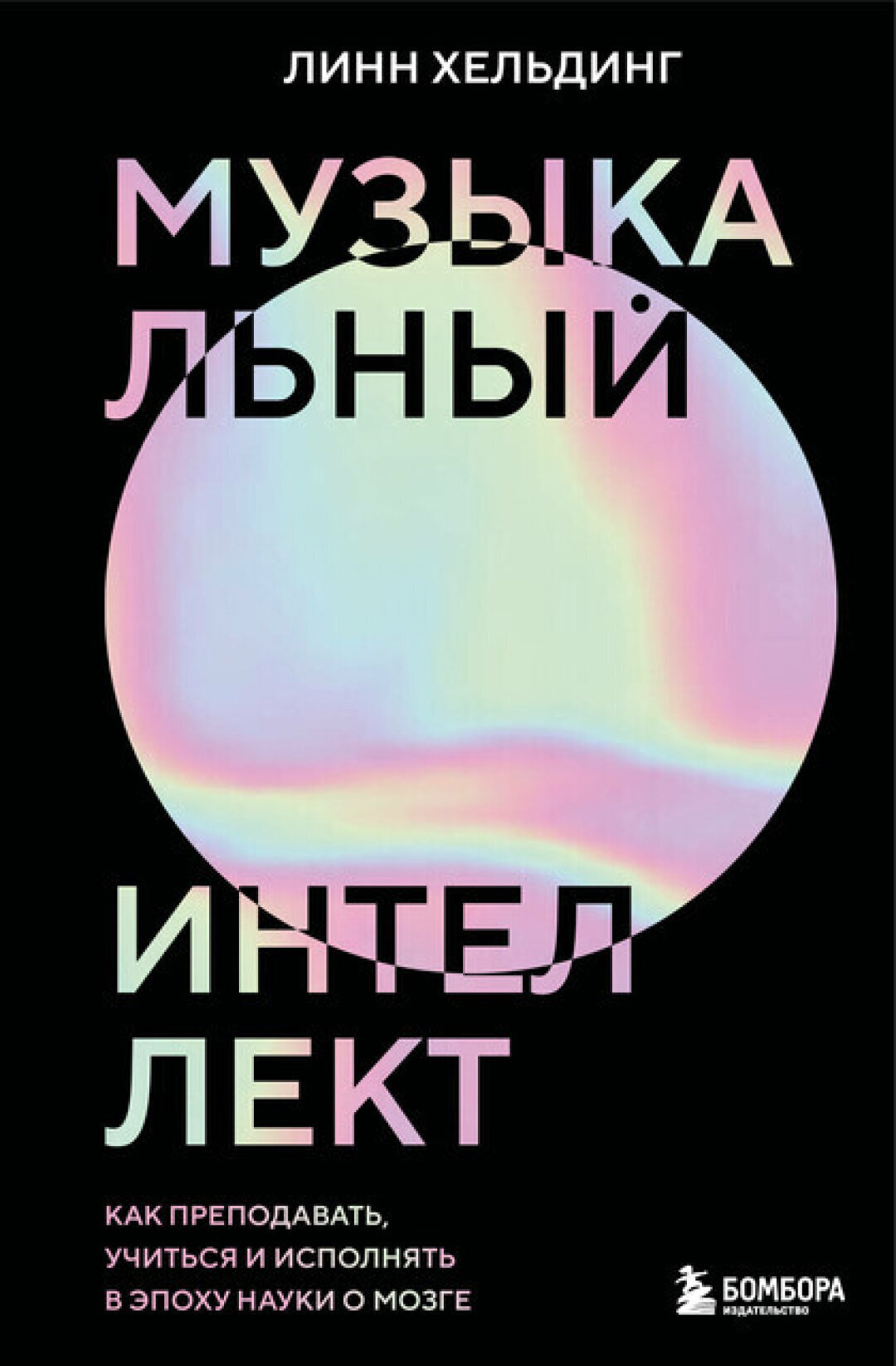


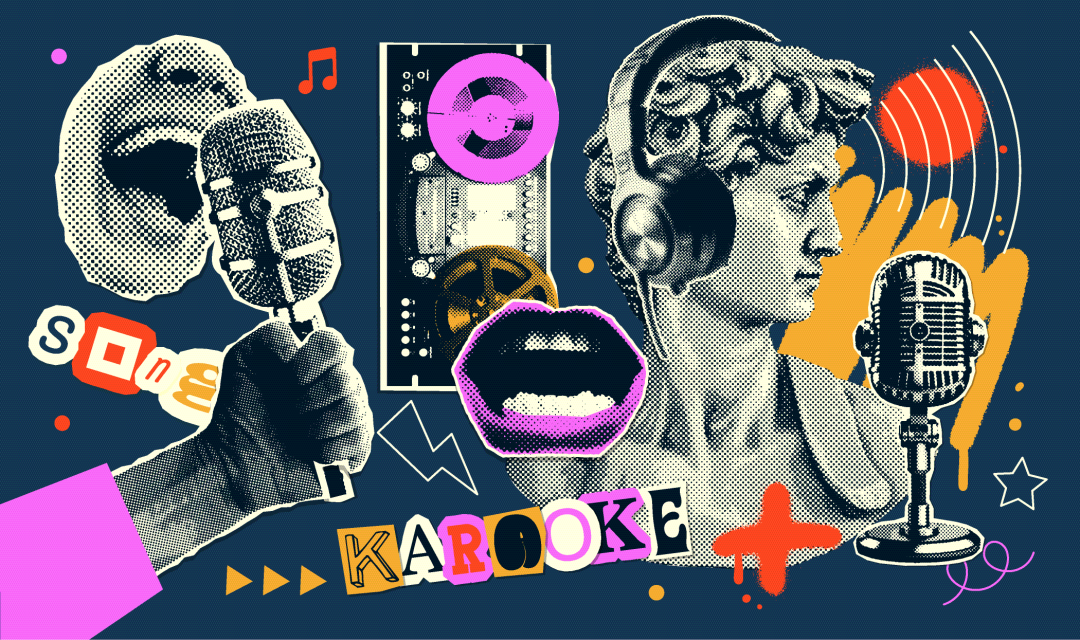



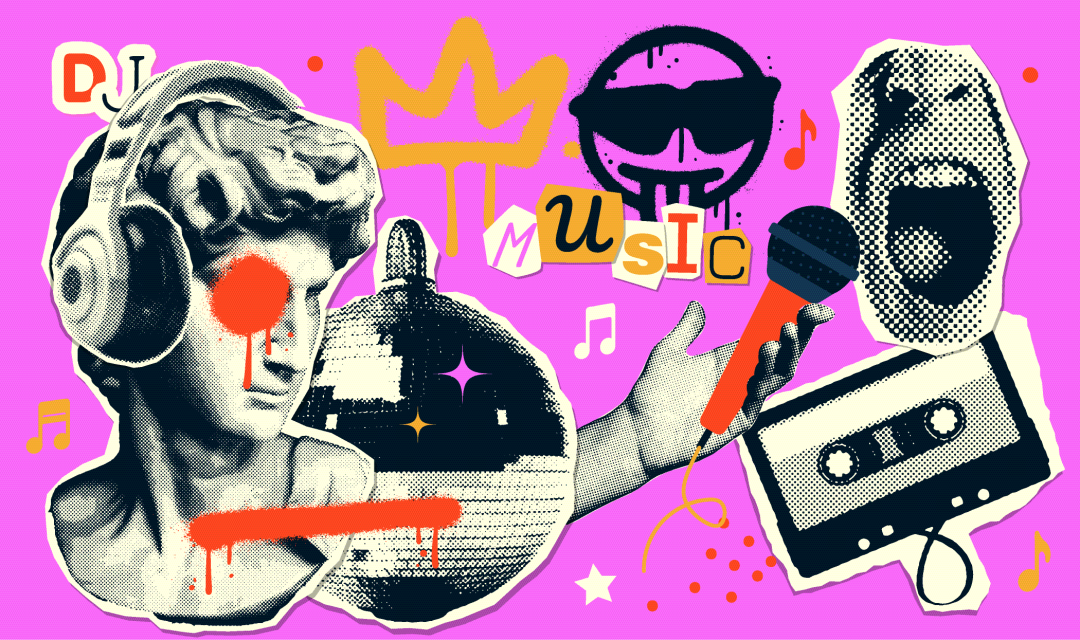
Комментарии (0)