В рамках проекта «Открытая библиотека» актриса Чулпан Хаматова и художник Борис Мессерер поговорили о шестидесятых, сериале «Таинственная страсть» и Белле Ахмадулиной. Приводим беседу целиком.
К. Гордеева: Добрый вечер! Удивительное дело: такой странный в жизни нашей страны 1937-й год подарил нам, тем не менее, большое количество невероятно важных для русской культуры, для русской литературы людей. И, наверное, самое яркое событие, которое случилось в 1937 году, — это рождение Беллы Ахмадулиной, поэта, женщины и личности, которая озарила собой вторую половину XX века. Вот, о ней накануне ее 80-летия мы сегодня и поговорим с Борисом Мессерером и Чулпан Хаматовой.
Мы, на самом деле, начали говорить еще несколько часов назад, и в середине этого разговора Чулпан произнесла удивительную фразу. Она сказала: «Я поняла. Белла Ахмадулина — панк». Ты можешь пояснить свою мысль? А Борис Асафович с ней или согласится, или нет.
Ч. Хаматова: Я сказала это в контексте разговора. Борис Асафович рассказывал о том, как они с Беллой были на концерте, который очень взволновал ее своей неточностью. Там пелись песни на стихи Осипа Мандельштама, которые не точно цитировались, и в какой-то момент Белла начала выкрикивать из зала «Я подам в суд!», «Это ужасно!», «Это отвратительно!». Это очень бунтарский, панковский поступок. Она вообще бунтарь была по своей природе при всей нежности и голоса, и души, и вида. Панк, изящно владеющий русской словесностью.
К. Гордеева: Я не понимаю, как можно было сочетать такую прямолинейность и такую нетерпимость к любого рода фальши с жизнью в самом расцвете Советского Союза? Мне кажется, что это почти невозможно.
Б. Мессерер: Конечно, невозможно, если смотреть на это совсем уж идеалистически. Но приходилось иметь дело зачастую с отечественными начальниками. А Белла очень много заступалась за людей: писателей, диссидентов. В том числе за Льва Копелева, за Георгия Владимова, за Володю Войновича, за Василия Аксёнова, за Параджанова Сережу — и еще много имен по разным поводам. И письма крупным начальникам, таким как Андропов или Шеварднадзе, Белла писала очень тактично. Потому что она понимала, что когда решается судьба таких людей, дело не во фронде, а в их защите. И тогда интонация становилась тактичной, потому что нельзя было просить начальника, демонстрируя свое гордое негодование.
И Белла находила в себе силы, чтобы сдерживать себя и писать тактично. Такая фраза у нее даже была: «Как и подобает просителю». Смирение присутствовало — нельзя было лезть на рожон и быть просто гордой: обстановка и отношения с властью требовали такта. Но и за этим стояла большая непримиримость, потому что даже такое заступничество вызывало резкое возражение начальников, которые не привыкли к такой форме общения. Это было подвигом с ее стороны.
Ч. Хаматова: А какое прошение назвали «белый стих»?
Б. Мессерер: За Сахарова. Это очень больной момент нашей биографии. Тогда происходил разгром журнала «Метрополь», и все его участники были очень напряжены: надо было выходить из Союза писателей и демонстрировать что-то. Но в тот момент Белле это казалось чем-то незначительным по сравнению с судьбой Сахарова. Она очень волновалась в этот период и посвятила себя защите Сахарова, а не участию в защите «Метрополя». И написала обращение в «The New York Times». Володя Войнович помогал в этом вопросе. Корреспондент «The New York Times» Крейг Уитни, пришел ко мне в мастерскую, и Белла ему вручила текст заявления, которое полностью есть в книге «Промельк Беллы», которую я принес сегодня с собой. Заявление это было написано в определенных выражениях и звучало довольно скромно, но смысл такой, что Сахаров ничего не боится, а я боюсь за него. Но Крейг Уитни написал в «The New York Times», что это белый стих в защиту Сахарова. И Белла очень вознегодовала, потому что это было прямое заступничество, а не лирика.
На следующий день после публикации в мастерскую позвонила Римма Казакова, очень милая женщина, но секретарь Союза писателей. Я взял трубку, и она говорит: «Борис, что у вас произошло?! Что там Белла написала в «The New York Times»? Как это могло случиться?!» Я говорю: «Римма, просто пришел Крейг Уитни, и Белла ему надиктовала текст. Впрочем, ты спроси у нее у самой». Римма говорит: «Белла не станет со мной разговаривать». Я говорю: «Нет, Римма, она будет с тобой разговаривать как с секретарем Союза писателей, поэтому ты не бойся. Она будет официально разговаривать». Ну и примерно повторился этот же сюжет. Римма спросила: «Белла, Белла, что ты там написала? Как это могло быть?!». А Белла сказала: «Пришел Крейг Уитни, и я ему дала это заявление».
Ч. Хаматова: Я его нашла в книге.
Б. Мессерер: Прочтите. Оно скромно звучит. Но в той ситуации это было очень весомо.
Ч. Хаматова: «Когда человек вступается за человечество, очевидно он не боится ничего. Он боится за человечество. Но я всего лишь человек, и я боюсь. Боюсь за него. И за человечество тоже. То, что я пишу сейчас, не беспристрастно. Но как я еще смогу выжить? Странно. Нет других академиков, чтобы заступиться за академика Сахарова — только я, Белла Ахмадулина, почетный член Американской Академии искусств и литературы».
Б. Мессерер: Да. А Уитни написал, что это белый стих.
К. Гордеева: Насколько похоже Чулпан читает?
Б. Мессерер: Чулпан читает изумительно совершенно и совершенно не хуже, чем Белла. Она читает по-своему — тут дело не в схожести, а в таланте Чулпан.
К. Гордеева: Только что отгремели все страсти, касающиеся «Таинственной страсти» (прим. «Открытой библиотеки»: сериал по мотивам одноименного романа Василия Аксенова), извините за тавтологию. Вы посмотрели хотя бы чуть-чуть?
Б. Мессерер: Я всё посмотрел, чтобы иметь возможность с вами разговаривать.
Ч. Хаматова: Можно я предысторию расскажу?
К. Гордеева: Расскажи.
Ч. Хаматова: Когда я получила сценарий, я сразу позвонила Борису Асафовичу, прибежала в его мастерскую. Мы побеседовали. Борис Асафович категорически сказал: «Ни в коем случае не делайте этого. Ни в коем случае».
Б. Мессерер: Да.
К. Гордеева: Почему?
Б. Мессерер: По простой причине. Я сказал, что это будет карикатура. А карикатура удачной быть не может.
У меня своя позиция. Я ее не навязываю никому. Для меня этот фильм — очень болезненное переживание, потому что он искажает суть того времени. Я не очень рвусь обсуждать всё это, но должен сказать, что на мой взгляд, это далеко не лучший роман моего любимого человека Васи Аксёнова. Может быть, и неудачный даже в чем-то. Я не поклонник этого романа. Может, это кощунственно звучит, но это так.
За этим стоит целая цепочка мыслей. Василий в чем-то был очень педантичным человеком, он всегда желал написать определенное количество страниц в день. И вдали от родины, потеряв некоторый контакт с нашей реалией, с повседневностью, он всё равно эти страницы выдавал на-гора, старался соответствовать строгости своего нрава, серьезности отношения.
И вдруг ему пришла в голову мысль написать роман из области своей юности, и он увлекся этой темой.
Но я не разделяю восторгов по поводу этого романа, потому что во многом это карикатура на время. И Чулпан тоже тогда мне сказала, что она будет истово выступать за Беллу, и я верил в это. Но актер всегда в руках режиссера, и поэтому сама ситуация всё равно безнадежна для актера, всё равно приходится следовать канве фильма.
А фильм — что я могу сказать? В нем многое искажено. Я не могу говорить за всю группу персонажей, но, мне кажется, что никакой общности в то время не существовало. Близость отсутствовала. Белла была мучеником и заложником своей совести. Она трагически воспринимала действительность и была совершенно не такой расхожей фигурой, как это многие представляют себе. Не было у них такой веселой гоп-компании. Белла была совершенно отдельно от остальных участников карнавала, как я называю эту поэтическую компанию.
Всё это довольно трудно для понимания людей, не знакомых с нюансами, но суть в том, что мы с Беллой не были диссидентами в прямом смысле, мы не выступали против советской власти, потому что политика не входила ни в ее творчество, ни в мое. Белла игнорировала советскую власть, что было иногда больнее для власти, чем прямое отрицание. Она ее просто не замечала, не хотела видеть, не хотела считаться. Она ценила русский язык, она переживала за судьбы простых людей, за крестьян. И переживала невзгоды жизни, следовавшие за угнетением, которому в то время люди подвергались.
И все наши настоящие дружбы развивались с диссидентами, хоть мы не были сами прямыми диссидентами. Мы сочувствующими были скорее. И дружбы наши были с Копелевым, с Георгием Владимовым, с Володей Войновичем, с притесняемыми людьми — потому что за этим стояло всё ощущение политического противостояния. Потому что этих людей преследовали, изгоняли.
К. Гордеева: Чулпан, если тебя так отговаривал Борис Асафович, почему ты все-таки сыграла?
Б. Мессерер: Нет. Не отговаривал. Я знал, что актерские дела другие у Чулпан. Она изумительно изображала Беллу и читала замечательно. Но в целом это карикатура, понимаете? Карикатура на время. Потому что Солженицын там подходит и говорит: «Можно, ребята, с вами выпить?» — ну, что-то в этом роде. Это искажение реалий и искажение трагедии, которая была в то время. Вот, почему это меня волновало и заставляло ощущать, что здесь присутствует липовый сюжетец.
Белла мучительно переживала трагедийные судьбы поэтов. Мандельштам — «поэт, снабженный кляпом в рот, и лакомка, лишенный хлеба», Цветаева, Ахматова — Белла писала трагедийные стихи, трагедия была частью ее существования.
В юности я был совершенно потрясен, когда услышал голос Алисы Коонен. Это было фантастическое трагическое звучание голоса, никому не свойственное. Трагический голос в сути своей. И Белла во многом обладала этим трагическим голосом и трагическим мироощущением, которое не разменивалось на оптимизацию, которая царит в фильме «Таинственная страсть».
Я всегда восхищался талантом Чулпан, она изумительна как жемчужина. Но что делать? Такую Беллу показать нельзя было. Хотя факт участия Чулпан во многом осветляет этот фильм.
К. Гордеева: Чулпан, а почему все-таки тебе было важно это сыграть?
Ч. Хаматова: Всё равно в этом фильме был бы персонаж, в этом карнавале, как говорит Борис Асафович, которую звали Нэлла Аххо. Он всё равно бы там присутствовал. Я не могу сказать, что у меня огромный выбор шикарных ролей. И я просто подумала, что, может быть, мне удастся хоть что-то хоть как-то хоть чем-то, своей любовью, своей преданностью к творчеству Беллы Ахмадулиной...
Б. Мессерер: Да. Так и вышло, так и случилось.
Ч. Хаматова: ...там быть полезной. Это во-первых. А во-вторых, я наслаждалась процессом съемок. У меня никаких нет иллюзий ни про современный кинематограф, ни про современное телевидение. Я наслаждалась. Я никогда такого количества книг про это время не читала. У меня не было бы такой возможности. Мне бы в голову не пришло взять и обчитать всё-всё про всех этих шестидесятников от начала и до конца. Я входила в кадр, играла и потом бежала к себе в вагончик, опять читала книжки. Для меня это самообразовательный проект, и я честно скажу, что я благодарна, что у меня была такая возможность.
Мне казалось, что я просвещенная более или менее. А оказалось, что нет. Это было первое открытие, насколько я темна. А второе открытие насколько я темна — это когда я прочитала книгу Бориса Асафовича Мессерера «Промельк Беллы». Прочитав ее, я поняла — это просто счастье, что вы ее написали. Я лично вам очень благодарна, потому что когда я готовилась к картине и искала везде отрывки, обрывки, какие-то эссе, посвящения Беллы Анастасии Цветаевой, Борису Пастернаку, Завадскому, Антокольскому — всё как-то выдергивала, выуживала. А тут вот не дождалась немножко. А теперь дождалась, и очень счастлива.
К. Гордеева: А как так вообще получилось, что поколение, которое росло за шестидесятниками, то есть поколение, которое возмужало и взрослело в Перестройку и в 90-е, отринуло опыт шестидесятников как тот опыт, на который можно было опереться? Каким образом так получилось, что для нас шестидесятники стали олицетворением того Советского Союза, который мы не хотели принимать? Было же это ощущение? Или оно только мое?
Ч. Хаматова: Мне кажется, было. У Евтушенко есть история, где он рассказывает, что когда свергали памятник Дзержинскому, вместе с ним полетело всё, что связано и не связано — вся эпоха просто. Мне кажется, что наше поколение отвернулось. Это чудовищная ошибка, я не могу себе этого простить.
К. Гордеева: Вы, Борис Асафович, ощущали это? В 70-е и 90-е Белла собирала стадионы. Наступила Перестройка и вдруг оказалось, что как будто бы она не у дел. Или у меня ложное представление?
Б.Мессерер: Я не очень понимаю этого. У меня другая терминология, поэтому я не совсем солидарен с вашими словами.
К. Гордеева: Это хорошо, что вы не солидарны — у нас есть конфликт. Но все-таки куда все эти огромные залы делись после наступления новых времен, новой России?
Б. Мессерер: Я не могу вам сказать. Это предмет особого разбирательства. Для меня это было незаметно. Я жил ощущением стихов Беллы, которое у меня было тогда. Оно осталось и после. Поэтому я не подвержен этому изменению сознания, да еще общественного. И она не чувствовала этого. Она жила в своем мире.
В Москве Белла была категорически запрещена какое-то долгое время, может быть, целое десятилетие. Но в Петербург мы приезжали неоднократно, и она читала тут стихи в больших аудиториях, в ДК Горького, например. Бывали такие случаи: она на сцене, получает анонимную записку «Если не боитесь, скажите ваше мнение о Бродском». И она отвечала: «Вот тут храбрый аноним спрашивает меня о моем отношении к Бродскому. Могу сказать, что он — гений». И дальше поясняла, что пока я здесь на эстраде перед вами, Бродский находится в архангельской ссылке.
Это не давало ей покоя. Она всегда помнила о трагедии времени и пребывание на сцене она воспринимала только как возможность заработка, потому что другого способа выжить просто не было. Кстати, могу, перебив высокое начало, сказать, что за сольный концерт в двух отделениях, который оплачивался Бюро пропаганды литературы, давали 45 рублей. А общество «Знание» за такой концерт платило 75 рублей. Это считалось приличными деньги для поэта, и мы жили вот этими выступлениями. Это первое.
Второе — Белла несла трагедию, которую она ощущала, людям. Потому что сопереживание, которое возникало, когда она читала стихи про Мандельштама, Ахматову и Цветаеву, вызывало огромный отклик у людей. Все всё понимали. Это был язык, как в Америке говорят, «between lines», между строк. Было искусство писать между строк.
Вот, Саша Володин, замечательный писатель питерский и наш близкий друг — он писал между строк. В «Современнике», играли его пьесу «Назначение», я его оформлял. Кваша играл отца Ефремова. И грозно кричал, желая воспитать сына: «Ты посмотри! Посмотри в окно! Там все думают то же, что и ты. Но они молчат!» И зал взрывался аплодисментами, потому что все понимали, о чем речь идет. Это искусство писать между строк. И Белла тоже выступала, неся просветительские идеи.
В Питере Белла проводила много времени и попадала здесь часто в больницу. Общее нездоровье у нее было сильное. Всегда очень хрупкость большая была. И циклы ее больничных стихов невероятно трагичны и человечны. Целый мир сочувствия к простым людям, больным, убогим — всем, это у нее оставалось всегда.
Или, вот, приезжали мы в Америку. А у нас очень тесные были дружеские отношения с Иосифом Бродским. Сложные интриги возникали, известно про конфликт Васи Аксёнова и Бродского. Но мы сказали Василию: «Прости, дорогой, но мы не можем занять такую однозначную позицию, мы должны с Бродским общаться».
Мы встретились с Иосифом в 1977 году. Было так. Мы гостили в Париже по приглашению Марины Влади и Володи Высоцкого, и провели у них три с половиной месяца. Вдруг пришли приглашения из Штатов: Беллу делали почетным академиком Американской академии искусств и письменности, и приглашали работать в университет UCLA на два месяца. В итоге я тоже читал там лекции по театру. Но — и это описано в моей книжке — нам не давали этого разрешения в советском посольстве. И мы получили визу сначала в Лондон, для участия в Кембриджском фестивале, а потом улетели в США,
как тогда называлось, without soviet permission, без советского разрешения, презрев все нормы официальных отношений тех лет. В это время никто не ездил таким образом за границу — мы были первыми.
Мы встретились с Бродским на первом выступлении Беллы в Квинс Колледж в Нью-Йорке. Это было очень трогательно, безумно. Он страшно переживал свой отъезд. И был обижен на судьбу и на участие отдельных поэтов в своей судьбе — что они, желая лучшего, мягко выражаясь, делали худшее для него. Поэт Уильям Джей Смит давал у себя дома прием, где мы были с Бродским и с Барышниковым, и Иосиф плакал на балконе, так сильна была в нем обида.
Иосиф сделал такие вот надписи любопытные. Белле он написал: «Подруга дней вполне суровых, прими мой пламенный привет, плод настроений нездоровых и сердца горестных замет». А мне на книге «Конец прекрасной эпохи» написал: «Когда я думаю о Боре, о Боре, о его напоре, когда я вспоминаю в США о милом Боре Мессерере, волнуется моя душа как у того, кто жил греша, при первых звуках Miserere».
Через 10 лет мы снова оказались в Штатах. И Бродский пригласил нас в Амхерст, где он преподавал. И он тогда сказал студентам, что Белла — лучшее, что есть в русском языке. И дальше, когда он послушал чтение стихов Беллы, как раз больничных стихов — вся моя мысль идет к вот этим больничным стихам питерским — он рыдал. Причем, он сказал такую вульгарную фразу, что не вяжется с его образом, конечно, но это не вульгарность, это такая дружеская мужская фраза: «Твоя баба меня совершенно растрогала сегодня». Так он старался скрыть свое волнение.
Он абсолютно не знал трагических стихов Беллы позднего времени и говорил: «Это совершенно что-то другое, чем те стихи, которые я помнил в начале ее становления». Стихи, на которые потом музыку Таривердиев писал — это всё детская наивность. А трагическое ощущение жизни пришло позже. Не только Иосиф, но и Нина Николаевна Берберова, и многие из тех, кто интересовался русской литературой, не знали этих поздних стихов. Процесс был разорван во времени — знали только ранние стихи, эмигранты особенно. Тогда же книжки только начинали издавать — этого не было ничего напечатано.
К. Гордеева: Борис Асафович, я вам хочу сказать, что поздних стихов не знали и мы, современники. И я хотела бы спросить Чулпан. В каком году ты стала много читать стихов Ахмадулиной?
Ч. Хаматова: А вы помните нашу первую встречу, Борис Асафович?
Б. Мессерер: Да.
К. Гордеева: Хороший у нас диалог.
Ч. Хаматова: А где?
Б. Мессерер: Здесь, когда получали премию Царскосельскую. Год примерно седьмой, шестой-восьмой.
Ч. Хаматова: Да. Мы тогда собирались сделать вечер современной поэзии, фестиваль «Территория». Там должны были выступать молодые поэты, и очень хотелось позвать Вознесенского, Беллу Ахмадулину. И, вот, мы встречаемся, сидим в каком-то ресторанчике. И я так радостно говорю: «Белла Ахатовна, у нас такая прекрасная идея: Политехнический музей, вечер современной поэзии — мы вас приглашаем». И она сказала: «Что у вас там современной?» Я говорю: «Поэзии». Она говорит: «Такого не существует. Вы что, с ума сошли? Такого понятия нет». И после этого я замолчала и просто сидела, молча хлопала глазами. В общем, я, честно говоря, не могу сейчас вспомнить ни одного из поэтов, который у нас был тогда.
Но в 2006 году я еще не читала подробно, не любила, не горела, не пульсировала стихами. Может быть, 6 лет назад они вдруг меня пронзили. Когда я поняла, что это всё написано про меня. Что это мне нужно как кислород. Что то, что у меня внутри, нуждается в выходе, в выражении — и эти стихи стали спасительными для меня буквально. Когда у тебя есть потребность выучить их не для того, чтобы читать со сцены, а для того, чтобы лечить себя. Они мне нужны для того, чтобы просто бормотать про себя или тихо-тихо зализывать этими стихами свои, мои раны.
К. Гордеева: Сейчас очень много говорят про оттепель. Последние несколько лет оттепель — это тот маркер, которым меряют нынешнее время. Вот, говорят «Это новая оттепель», «Это похоже на оттепель». Есть ощущение, что это не изнутри идет, а как будто сверху навязывается. И навязывается в том числе и образ оттепели, который транслируется в сериале «Оттепель» или «Таинственная страсть», или где-то еще, где всё время говорят про оттепель. Как вы думаете, с чем это связано? И кажется ли вам, что такой референс к оттепели связан с какими-то проявлениями современной культуры? Про современную поэзию я не буду говорить.
Б. Мессерер: Современная оттепель?
К. Гордеева: Современная оттепель, да. Почему вдруг возникла потребность говорить про оттепель?
Б. Мессерер: Я этими категориями не мыслю совершенно. Потому что я помню только первую оттепель, настоящую.
К. Гордеева: Ну, она единственная. Ее Эренбург прозвал так.
Б. Мессерер: Да, Эренбург Илья Григорьевич так назвал свою повесть — «Оттепель». Мы молодыми были в то время и задыхались в сталинском этом ужасе, который ледяным объятием всю страну охватил, когда ни одного живого слова нельзя было сказать. Это же была катастрофа, нагнетание было чудовищное. Шли такие удавки общества, удушение людей. Исповдовалась борьба с космополитизмом — позорное дегенеративное явление. Клеймили самых уважаемых литераторов, режиссеров, художников — всех обвиняли в космополитизме.
А потом это сгустилось до Дела врачей, когда врачи-убийцы уже оказались в кремлевской больнице. Это был просто бред. Тяжелейший. Я помню, когда я прочел утром газету с делом врачей-убийц в «Правде» — это был страшный удар по нервам. Я вышел на улицу и встретил случайно Рахиль Михайловну, мать Майи Плисецкой. А отца Майи Плисецкой расстреляли же тогда. И она с заплаканными глазами шла и сказала: «Неужели ты хоть на секунду мог подумать, что они, действительно, убийцы? Это всё проклятый Сталин провоцирует людей».
Время было удушающее просто, понимаете? И вдруг после этого хрущевская невнятица дала ощущение новой жизни. Был еще такой период жизни труднейший для общества, когда Хрущев сделал свой разоблачительный доклад про все эти муки и как калечили людей и пытали, и что творилось в застенках, и развенчал образ Сталина. Потом от перепуга власть вся не знала, что делать, и решили замолчать понятие Сталина, о нем перестали говорить вообще ни в хорошем смысле, ни в плохом. Никто не употреблял имя Сталина в течение двух-трех лет вообще.
Чтобы вас развеселить чуть-чуть расскажу анекдот, связанный с Гердтом. На собрании в Театре кукол, где работал Гердт — очаровательный человек, чудо, изумительный, остроумный — вдруг кто-то сказал слово «Сталин». И Гердт, маленький, хромой, встал и сказал: «Сталин, Сталин... Такой низенький, с усиками? Помню-помню».
Вот такое было время причудливое. И вот тогда и произошла оттепель в литературе, которая родила волну поэтов.
А дальше то, что вы, Катя, хотите всё время выяснить, связывая то время с нынешним, я прояснить, к сожалению, не могу, потому что я не живу этими категориями, не понимаю, что такое новая оттепель.
Сейчас — не поймешь что. Я не буду касаться современной политики, бог с ним — это вам с ней разбираться.
К. Гордеева: Если хотите, можете коснуться. Но я вас не принуждаю.
Б. Мессерер: Нет, касаться ее не хочется. Пусть это будет такой период замалчивания.
К. Гордеева: Но ведь было же? Оттепель-оттепель-оттепель, вот сейчас будет свобода, вот еще чуть-чуть — а потом раз, и всё схлопнулось.
Б. Мессерер: Вы всё правильно сказали, это уже не требует моих комментариев.
К. Гордеева: Так и сейчас такое ощущение. Это я не сама такая умная — это мне Чулпан говорила в интервью. Вот, в чем рифма с сегодняшним днем.
Б. Мессерер: Ну, что говорить? Та реакция общества была правомерной и родила волну поэтов, которых мы до сих пор обсуждаем. Может быть, современные поэты — среди них масса талантливых имен — презирают примитивное с их точки зрения творчество поэтов того времени. Но достичь той славы и того успеха, который был в то время, им очень непросто.
Ч. Хаматова: А тебе не кажется, Катя, что это просто время пришло? Отказались, свергли, скинули с корабля современности. А потом пришло время — и просто посмотрели на это другими глазами. Как я, например. Для меня это тоже стало открытием. А потом стало понятно, что зрителям это интересно, и на этом еще можно заработать хорошо. И оттепель стала модной.
К. Гордеева: И оказалось, что уже почти нет никого, кто мог бы рассказать достоверную историю, как сейчас Борис Асафович — о том, как это было на самом деле. И начинаются легенды. И подмена фактов.
Б. Мессерер: Эту историю очень трудно воссоздать. Но мы все сходимся на этой фразе Беллы, которая сказала, что вот мы на эстраде стоим, а Иосиф находится в архангельской ссылке. Тогда это воспринималось как бомба, потому что про Бродского молчали.
Но Бродский, конечно, внес революционные идеи. Он совершенно поменял психику следующих поколений своим творчеством. И целая эпоха, получается, им сформирована, и мы все живем в эту эпоху.
А то, что сейчас происходит — вот то, что вы хотите сказать, про волны такой же оттепели — это уже вы должны судить, а не я.
К. Гордеева: Тогда у меня к вам прямой вопрос. Какие у вас планы насчет вашей мастерской, символ оттепели? Не собираетесь ли вы там, например, организовать музей?
Б. Мессерер: Я был бы счастлив организовать музей, и думаю об этом беспрестанно, потому что у меня огромный архив.
В мартовском номере журнала «Знамя» опубликован очень большой объем писем Беллы, написанных мне. Изумительные письма, которые писались случайно, стихийно из Тарусы, из Иваново-Вознесенска, откуда-то, куда судьба закидывала ее. И письма дивные, их очень любопытно читать, в них очень много живого. Они как живой организм.
Это всё хранится у меня в мастерской. И она могла бы, и правда, стать музеем шестидесятников. Но я не очень знаю, как подступиться к этому, потому что есть две формы музея: государственный и частный. Государственный музей — надо всё сразу передарить государству, тогда оно будет его содержать.
К. Гордеева: Я бы не стала этого делать.
Б. Мессерер: Ну, вот, неясный вопрос. А частный музей — это надо на свои деньги делать. У меня их нет.
К. Гордеева: Но если что, вы готовы? Если вдруг кто-нибудь услышит, кто хотел бы помочь такому музею?
Б. Мессерер: Да, абсолютно. Я мечтаю об этом. Потому что вся обстановка просто без изменений такая же, как и была во времена “Метрополя”, там всё осталось так, как было, ничего не тронуто временем. И, конечно, было бы счастьем сделать музей. Но как подступиться к этому? Я растерян.
К. Гордеева: Каким мог бы быть музей оттепели, Чулпан? Что там должно звучать? Кто там должен быть? Какие должны быть экскурсии? Кого туда водить?
Ч. Хаматова: Он был бы прекрасным. Просто приходите смотреть. Там самые известные фотографии на фоне картин Бориса Асафовича. Там столько всего!
К. Гордеева: Я считаю, что если наш диалог послужит толчком для открытия этого музея, мы сделаем огромное дело.
Б. Мессерер: Это моя мечта.
К. Гордеева: У меня последний вопрос к Чулпан. Какое стихотворение Беллы ты считаешь для себя, для нас самым важным?
Ч. Хаматова: По-разному — для себя, для нас, для вас.
К. Гордеева: То есть ты не с нами? Какое ты чаще вспоминаешь сейчас? Какое тебе кажется ближе?
Ч. Хаматова: Каким-то фантастическим образом — очень известное ее стихотворение, юное как раз, как считает Борис Асафович, наивное — «По улице моей который год». Оно сегодня очень страшно звучит. Вот именно сегодня, когда я вижу, как расходятся судьбы, дружбы, сколько злобы и агрессии между людьми, которые хорошо относились раньше друг к другу, и их можно было назвать друзьями, а потом в какой-то момент они желают друг другу смерти, и в публичном пространстве.
Вот та темнота за окнами — она вдруг стала другой темнотой, сегодняшней. Той темноте уход за окнами угоден, а мы на эту темноту всё время ведемся все и поддаемся ей, и угодничаем этой темноте.
И для меня это удивительное открытие было. Стихотворение писалось людям, которые предали Пастернака и не встали на его защиту, которые перестали быть друзьями. А сегодня оно звучит страшно. И современно.
К. Гордеева: Я думаю, это из тех стихотворений, которые примерно все в этом зале знают наизусть. Когда будете идти домой, вспомните его про себя и постарайтесь беречь тех, кто рядом с вами.
Спасибо вам огромное.
Материал подготовлен на основе расшифровки проекта «Открытая библиотека».


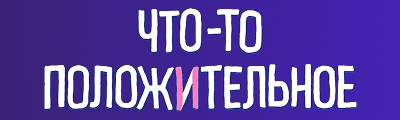

Комментарии (0)