В 2025 году культурный центр «Явь» в Самаре сделал масштабный проект «Сотворение Прорана» о прошлом и настоящем острова Проран. Одним из результатов антропологического и архивного исследования стал арт-объект «Облачные дома» Андрея Сяйлева. Специально для Собака.ru архитектурный критик, автор канала «Город, говори» Мария Элькина впервые в жизни побывала в Самаре и рассказывает, как миллионник сумел не стать искусственным, не потерять связь с ландшафтом и что Петербургу пора заимствовать у Поволжья.
Как, наверное, и многие петербуржцы, я привыкла смотреть на другие города слегка снисходительно. Умные люди и так бы мне сказали, что это недальновидно и попросту нелепо, но по-настоящему учит только собственный опыт. Я это все к тому, что последние выходные провела в Самаре, от которой не ждала совершенно ничего, кроме арт-объекта «Облачные дома» Андрея Сяйлева на острове Проран.
Оказалось, что Самара — в некотором роде идеал современного мегаполиса. Конечно, не во всем. Здесь удивительно неудачная современная застройка — не лучше, чем везде. Есть метро, но не совсем удобное, так что дорожные заторы давно стали неотъемлемой частью будней. Наследие сохраняют так себе, честно говоря — не катастрофически плохо, но далеко не блестяще. На руинах некоторых старинных деревянных домов прорастает трава, какие-то из легендарных местных модерновых зданий отреставрированы не особенно аккуратно. Всюду пластиковые стеклопакеты, придающие пейзажу оттенок дешевой вульгарной утилитарности. Словом, никаких розовых очков на мне нет, я прекрасно вижу, что Самара не избежала ни глобальных, ни типично российских урбанистических проблем.
И все-таки это особенное место. Весь город стоит вдоль пляжа длиной во много километров. Пляжа — в самом непосредственном смысле слова: со скамейками, кабинками для переодевания, прокатом лежаков, сотнями загорающих и купающихся людей, десятками киосков с мороженным, кофе и хот-догами. И у всего такой полный вкус, что сразу ясно: делают как для себя, а не продают усредненный продукт массового потребления.
В Самаре пьют местное пиво «Жигулевское» и закусывают локальной рыбой. А еще — менее известная, но более красноречивая деталь — на улицах продают живой квас и лимонад, 24 рубля за маленький стаканчик.
Вдоль дорог растут яблони и высажены цветники — и каждый выглядит так, как будто какая-то щедрая трудолюбивая хозяйка за ним ухаживает. Это вам не казенные петунии в петербургских клумбах и не прихотливые растения в московском «Зарядье», поддержание которых «в форме» по слухам обходится каждый сезон в круглую сумму денег.
Я не помню другого города в России, где бы так неподдельно открыто и совсем не заискивающе общались в магазинах и заведениях.
Местные жители на лето переезжают в дачные домики на другом берегу Волги и плавают оттуда на работу на речном общественном транспорте, здесь такой есть. Волгу в Самаре есть смысл смотреть не с прогулочных корабликов для туристов, а с паромчиков, курсирующих по расписанию между берегами — прямо как в Стамбуле, Осло, Копенгагене, Амстердаме, Бангкоке, но почему-то не в Петербурге.
В конструктивистском здании фабрики-кухни кроме филиала Третьяковской галереи устроили познавательную экспозицию о культуре еды в СССР. Простота решения исключает претенциозность и одновременно показывает, как это редко случается в России, что культура — не дополнение к повседневной жизни, а ее часть.
Местный фестиваль «Волгафест» — не важное культурное мероприятие для интеллектуалов и не официальное городское событие для галочки и фотографий насилу собранной массовки, а просто отличное развлечение и просвещение для горожан. Разная приятная музыка, караоке, которое поют хором, познавательные лекции, детские площадки, большой танцпол, гастромаркет. Всем весело и есть чем заняться.
И, к слову, об инсталляции. Даже она сделана не совсем так, как большинство подобных проектов. «Сотворение Прорана» затеяли как некое отдаленное подобие фестиваля «Архстояние» в Никола-Ленивце, где архитектурные объекты преобразовали рядовой сельский пейзаж в арт-парк и место паломничества модной и любопытной столичной публики. Там принцип в том, что объекты хоть и комплементарны пейзажу, все же трансформируют его. Работа же художника Андрея Сяйлева на острове Проран — нечто противоположное по смыслу. Здесь главное не объект, а проведенная в рамках подготовки к его установке исследовательская работа, во время которой выяснили, как и чем остров живет раньше и сейчас. Посреди сосновой рощи, высаженной примерно 70 лет назад местными жителями на Проране, чтобы спасти себя от затопления, появились «Облачные дома», которые, в отличие от тех, что десятки лет назад унесло паводком, защищены от стихии. Художник ландшафт не облагородил и не трансформировал, а сделал более выразительным и понятным наблюдателю со стороны, раскрыл его.
Все эти детали я перечисляю для того, чтобы передать самое главное ощущение, которое преследует в городе почти всюду. Самара сохраняет связь с землей, водой и людей с людьми. И в еде здесь есть какая-то не показная, не зожная, а неподдельная натуральность. И нет, не подумайте: речь идет о полноценном мегаполисе, где есть машины, пробки, отели, бутики, супермаркеты, кофейни, доставка продуктов, шум, офисы.
Я вам рассказываю не о «милой провинциальности», а о том, как миллионник сумел не стать искусственным и не потерять контакт с ландшафтом. В Самаре у вас есть одновременно все возможности большого города и все радости простой жизни. Здесь это принято объяснять словосочетанием «город-курорт», но важно, что курорт не для других, а для самарцев же. Не ради умножения прибыли, а, так сказать, по любви.
Наверное, когда современные урбанисты говорят про уважение к локальному, про уникальность места, про важность простых удовольствий и человеческого общения, они в идеале имеют в виду «как в Самаре», пусть большинство не знают об этом. И именно здесь становится понятен главный недостаток большинства известных мне городов, в том числе и Петербурга. В них слишком многое нацелено на то, чтобы производить впечатление, обеспечивать приличия и безопасность, а не просто обживать местность наиболее разумным и приятным способом. Как-то так всегда получается, что если все сделано осторожно, по правилам и с выгодой, то уже и не важно, нравится кому-то или нет.
Глупо питать иллюзии и верить, что можно по чьему бы то ни было желанию или остроумному наблюдению изменить привычки и менталитет жителей мегаполиса. Но ведь, с другой стороны, чопорность петербуржцев — отчасти миф, а отчасти элементарное отсутствие в пространстве мест, где можно быть непосредственным. Я из детства помню, как охотно ленинградцы катались на лодках в ЦПКиО и финских санках на Карельском перешейке, как заполняли пляжи не только вдоль озер и залива, но даже и Невы там, где это возможно.
Наша градостроительная политика слишком серьезная. Там, где раньше были спуски к воде, возводят развязки для машин. На старом намыве Васильевского острова на берегу был пляж, а на новом строят изо всех сил степенный «линейный парк» для прогулок туда и обратно. Предыдущий губернатор и вовсе запрещал горожанам валяться на траве. Недавно мой любимый спуск в Большой Невке на Петроградской набережной зачем-то перетянули забором из проволоки. Видимо, чтобы я не утонула. Нам намекают на то, что яхт-клуб сам по себе — не слишком прибыльное предприятие, и имеет право на существование только как часть комплекса с апарт-отелем.
Мы должны возвращать городу землю и воду. Делать больше пляжей, больше газонов, где можно валяться, больше спусков к воде, больше мест для катания на роликах и велосипедах, больше скамеек, больше всего, что замедляет время и наполняет его живыми переживаниями.
Я уже слышу возражения, главное из которых обязательно содержит упоминание климата. В Самаре, мол, тепло, а у нас в Петербурге холодно. У меня есть на это ответ, а то и два. Для начала не будем забывать, что на Земле неумолимо происходит глобальное потепление, которое уже, между прочим, приучило нас к тому, что температура 30 градусов летом — скорее норма, чем отклонение. Вода в озерах под Приозерском и тем более в Финском заливе почти уже и не холоднее, чем в южной части Волги. Потом, однажды великий уже современный урбанист Ян Гейл подкинул мне элементарную и бесспорную гипотезу. Заключается она в том, что в городе, где хорошо летом, не бывает тотально плохо зимой. Чуть хуже, чем летом — да, но все равно намного лучше, чем в городе, где и летом душно и нет простого и доступного способа себя занять.
Да, город по своей природе — нечто сверхъестественное, но именно поэтому естественность в нем служит самой большой роскошью, которую только можно себе представить. Хочу как в Самаре.
Текст: Мария Элькина
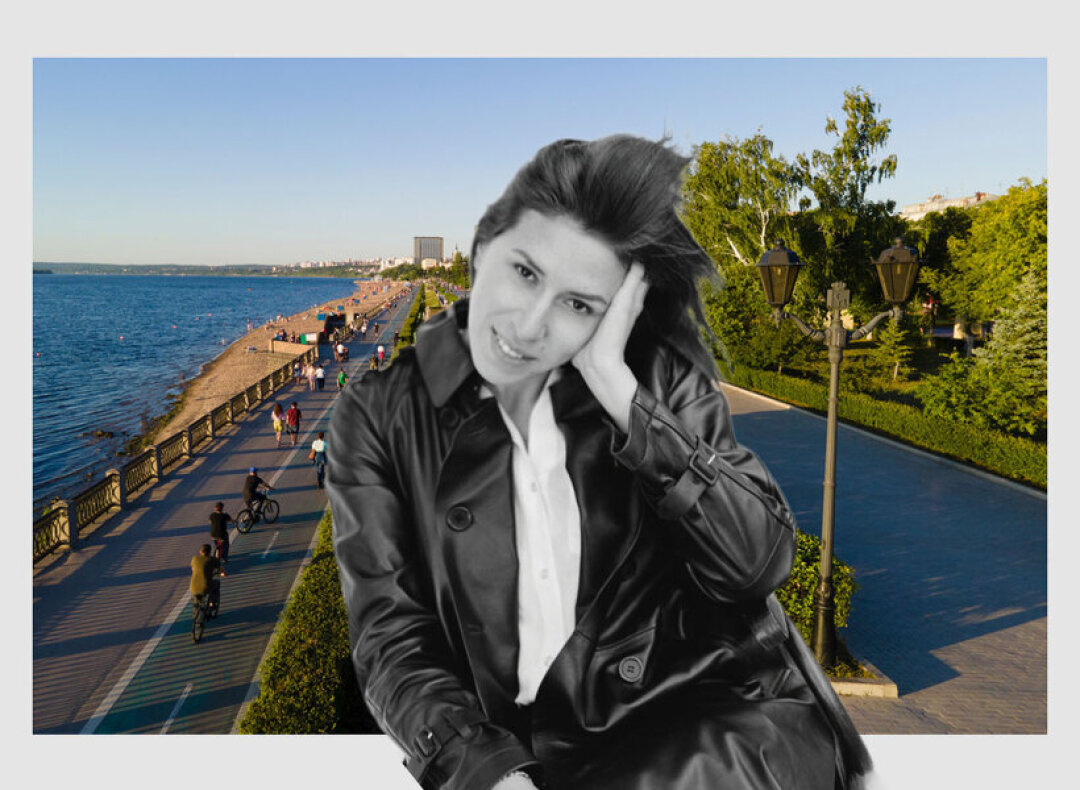







Комментарии (0)